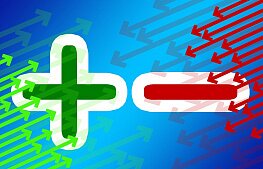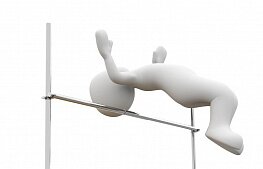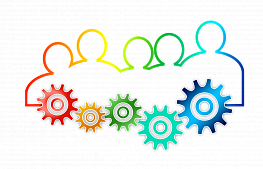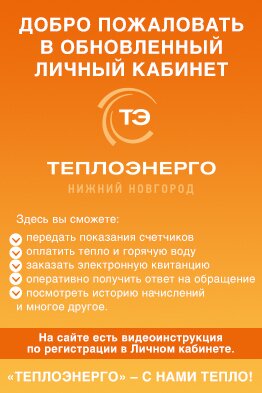Идеологический винегрет чреват кровавой кашей
Отмена праздника 7 ноября, инициированная фракциями “ЕР”, ЛДПР и депутатами “Родины”, имеет прямое отношение к выступлению президента Владимира Путина по итогам бесланской трагедии. Помнится, что глава государства именно тогда объявил о необходимости консолидации общества.
Мы уже задавали риторический вопрос о том, на каких условиях будет происходить данная консолидация. Отмена праздника 7 ноября и есть ответ на данный вопрос. Объединяться будем на условиях, которые предложит власть.
Поясним. Вместо 7 ноября у нас появится новый праздник – 4 ноября – День Единения.
Мы же хотим единения, о нем не только президент говорил – глава УФСБ по Нижегородской области Владимир Булавин – и тот считает, что ныне должен сплотиться весь народ.
Вот и день придумали, чтоб люди знали, когда сплотиться стоит особенно крепко.
Даже нижегородские политики, привыкшие бодро приветствовать все инициативы Москвы, на отмену 7 ноября отреагировали достаточно вяло. Г-н Цапин, например, заявил, что не стоит этого делать, “потому что живы еще ветераны”. Логика, конечно, странная – значит, если ветераны вымрут, можно что угодно отменять, а пока живы, надо оставить им цацку – пусть порадуются. Но, повторяем, даже такой ответ известного нижегородского законотворца выбивается из ряда привычного и радостного согласия периферии со всезнающим центром.
Проблема, собственно, заключается не в самом 7 ноября. Это частный момент, и, так сказать, иллюстрация к происходящему в стране.
А происходит следующее. И в Москве, и на периферии власть с завидным постоянством демонстрирует то, что у нее отсутствует четкая идеологическая программа.
Чтобы далеко не ходит за примерами – сравним сложившуюся ситуацию с советской эпохой – она самая близкая.
В последнее время появилось мнение, что в РФ происходят процессы реставрации советизма. Самую бурную реакцию вызвало принятие советского гимна с новыми словами. Впрочем, реставрационные моменты куда более заметны не в идеологической, а в политической сфере – в частности, в самом факте усиления влияния силовых структур на политику и в очевидном дрейфе политической системы к однопартийности и централизму.
Важно отметить, что реставрационные процессы происходили в свое время и в СССР. Причем, примерно с тем же, что и сейчас, временным отрезком – если отсчитывать от года революционного перелома. В СССР реставрация пришлась на середину 30-х годов – то есть, спустя примерно 15 лет от того самого 7 ноября 1917-го. Вот и ныне с того перелома, что иногда называют “буржуазной революцией”, прошло тоже примерно 15 лет (чуть больше или чуть меньше в зависимости от того года, от которого вести отчет – от 1985-го, от 1991-го или 1993-го).
Итак, в середине 30-х годов прошлого века Иосиф Сталин инициировал частичную реставрацию России дореволюционной, осознавая, что в этом назрела необходимость. С одной стороны, того требовал народ, переутомленный пятнадцатилетней ломкой и бойней, с другой стороны, того требовала складывающаяся в мире ситуация, в которой оторванной от идеологических корней и осознания своей “самости” революционной России пришлось бы очень трудно. В 30-е была свернута деятельность ультраэкстремистских революционных идеологов. Троцкого выгнали чуть ранее, запустив вслед ледорубом; Бухарин “под давлением общественности” публично отказался от своей русофобской позиции; Маяковский в обход всех пролетарских Безыменских был назван главным поэтом эпохи; критиканы, травившие Сергея Есенина и Алексея Толстого замолчали (чуть позже всех критиканов посадили); Горького и Куприна вернули домой; в школах начали изучать Пушкина и Гоголя; Сталин отменил указ Ленина о борьбе с религией; в театрах полногласно зазвучала русская классическая музыка; была существенно принижена роль партии; и, в конце концов, как итог всей этой компании произошел 37-ой год, когда большевики 20-х годов были истреблены, как политическая сила.
В довершение культурологической темы добавим, что из эмиграции вернулся даже Александр Вертинский, салонный певец, чье присутствие в Советской России еще, скажем, в 29-ом году было абсолютно немыслимо.
Сталин держал реставрацию под контролем. Есть десятки свидетельств, что он вмешивался во всё: с одной стороны, чтобы “не загубить” революционный дух в новом поколении, родившимся после революции, с другой стороны, стремясь поддержать разломанную революцией связь поколений, и не давая советскому народу чувствовать себя, как говорил сам Сталин в те годы, “Иванами не помнящими родства”. Достаточно отследить очередность появления и тематику всенародно любимых картин, многие из которых были созданы по личному указанию Сталина: “Депутат Балтики” (1936) и “Петр Первый” (1937), “Человек с ружьем” (1938) и “Александр Невский” (1938), “Ленин в Октябре” (1939) и “Минин и Пожарский” (1939), “Первая конная” (1941) и “Кутузов” (1943).
По большому счету, Сталин имитировал реставрацию. Ни о каком возврате к дореволюционному времени речи, конечно, не шло, то есть эта реставрация имеет мало общего, например, с двумя реставрациями, что произошли во Франции в 19-ом веке, когда к власти возвращались родственники свергнутых монархов.
Тем не менее, как бы мы не относились к Сталину, данные реставрационные процессы пошли на благо государства – ибо дали понять народу в 1941 году, что он защищает свою Родину, Россию, пусть и Советскую.
То, что происходит в наше время – это, конечно, менее болезненно для народного самощущения, но зато и куда хуже обоснованно логически.
Ну, хорошо, у нас в стране в начала 90-х сменился строй, случилось. Так надо было тогда же и отменить все 7-ые ноября и красные знамена, Сталинграды и Ленинграды, памятники Дзержинским и портреты Ленина. Нет, людям мотают нервы 15 лет – нате вам гимн, отдайте 7 ноября, дайте нам Ленинград, а мы вам, может быть, подарим Сталинград. А может быть, и нет. Как гороскоп подскажет.
Налицо факт, что власть пытается манипулировать общественным мнением, то заигрывая с советской идеологией, то отрицая ее начисто. Но это порой просто глупо! В переломные моменты власти простительно всё, в том числе и жесткость, если не подлость – но глупость ей никогда не простительна.
Политолог Станислав Белковский верно подметил, что русский народ можно гнуть и ломать очень долго – но только до тех пор, пока он уверен в сакральности власти. В 1917-ом Николай II отрекся от престола – и сакральность царской власти сошла на нет. Это обернулось для России масштабной катастрофой. Советская власть для подавляющего большинства жителей СССР была сакральна – она вселяла веру в светлое будущее, она утверждала, что у нее есть цель. Если хотите, с большой буквы – Цель. За это власти прощалось многое. Когда в конце 80-х советская власть усомнилась в подлинности своей Цели, это снова привело к катастрофе.
Очевидно, что современная российская власть так и не определилась с Целью. Догнать и перегнать Португалию – это не Цель. Удвоение ВВП – это тоже не Цель.
В силу той причины, что на начальных этапах жизни СССР власть в глазах населения обладала сверхлегитимностью, порой полумистического характера – это распространялось и на праздники этой власти. 7 ноября было праздником, не столько днем освобождения от “царского трона”, сколько днем веры в светлое завтра.
4 ноября таким днем не станет. Мы не сможем объединиться – нам не за чем. Что может предложить комичный Жириновский и не в меру серьезные “единороссы” населению 4-го ноября? Пирожок и водку? Это хорошо. А смысл? Русские всегда хотят смысла, им без смысла скучно.
В конце концов, что бы не говорили нам по телевизору, 4 ноября 1612-го года не является днем окончания великой Смуты начала 17-го века, к которой этот день шьют даже не белыми, а конкретно гнилыми нитками. Историки уже отметили, что с исторической точки зрения эта дата – пустое место. В этот день в 1612 году ничего существенного не произошло. Смута продолжалась как минимум до 1615 года, война с поляками — до Деулинского перемирия 1618 года. 1612 год важен как дата освобождения Москвы от поляков, но это произошло не 4 ноября.
Надо понимать, ничего особенного в этот день и не произойдет. Не будет никакого единения. А раздражение у какой-то – и достаточно весомой – части населения будет. Разве мы этого добивались? Мы же хотели, объединиться, чтоб с терроризмом бороться. А мы чем занимаемся?