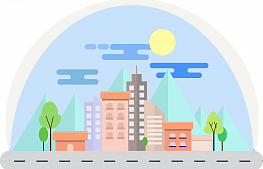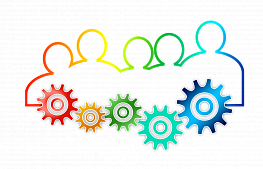Многомерность русского характера
Не только достоинства
Беспрецедентные исторические
испытания сказывались на характере народа не только положительно. «Могли ли
эти испытания, междоусобия, муки, унижения и крушения пройти в истории русского
народа и особенно русской души бесследно? Должны же были оставаться глубокие
раны в душе, порочные навыки, злые обычаи, неотмщённые обиды, задержки в
развитии, материальные разрушения, духовные ущербы, общая отсталость и
некоторая утомленность?» (И.А. Ильин). Душевные травмы наложили на юный
народ неизгладимый след. Необходимость выживания, приспособления к монгольскому
нашествию производила отбор людей с характером уклончивым, двойственным,
раболепным. «Подлое низкопоклонство и заискивание перед татарами, стремление
извлечь из татарского режима побольше личных выгод, хотя бы ценой
предательства, унижения и компромиссов с совестью, – всё это, несомненно,
существовало, и притом в очень значительной мере. Несомненно, существовали
случаи и полного ренегатства, вплоть до перемены веры из карьерных соображений»
(Н.С. Трубецкой). Люди прямодушные, непреклонные, храбрые перемалывались в
жерновах ига, выживали угодливые. Менялся не к лучшему характер всего народа.
Новые черты вплетались в его судьбу, их нужно было либо изживать, либо
выстраивать жизнь в соответствии с ними. В споре иосифлян и нестяжателей
в конце XV – начале XVI века столкнулись две ориентации в русской душе:
стремление закрепить сложившийся характер (в том числе легализовать его во
внешних формах жизни Церкви и государства), с одной стороны, и стремление к
взыскательному духовному самовоспитанию – с другой. В итоге официально
возобладала иосифлянская позиция, умаляющая внутреннее совершенствование
человека.
Русский народ жил на суровой земле,
где добыча и освоение природных богатств требовали огромных усилий.
Приобретённое тяжким долгим трудом могло превратиться в прах при очередном
нашествии. В этих условиях легкомысленность и иллюзорная самоуверенность играли
компенсирующую роль, ибо не может человек непрерывно находиться в
сверхнапряжении. «Народная молва сохранила три слова, которые едва ли знает
какой-либо другой народ: “авось”, “небось” и “как-нибудь”. Эти слова призваны
помочь выбраться человеку из любого трудного положения, из любой житейской
беды. Вообще склонность к творческой импровизации в последнюю минуту – крайнее
средство при отсутствии реальной, исполненной ответственности готовности. Самим
русским давно известна прельстительная опасность этих словечек. Одна из
старейших русских пословиц с обычным национальным юмором предупредительно гласит:
“На авось города стоят без стен; на авось женщина не успевает детей родить”… Но
своё полное выражение находит эта иллюзия, это безответственное легкомыслие в
широко распространенном обороте речи: “мы их шапками закидаем”» (И.А.
Ильин).
Неокрепшая израненная народная душа
была зависима от сурового традиционного уклада, его обязывающих форм, его
гармонии и ритма, организующих душу. Ибо «традиционная нравственность – это
гранитные берега, которые не дают разлиться бурной реке бессознательного. Это
устои, а устои для того и существуют, чтобы придавать устойчивость,
стабильность человеку и обществу» (И.Я. Медведева). Русский человек в
органичном для него укладе дисциплинирован, трудолюбив, проявляет чудеса
творчества и смекалки, ибо русская жизнь ориентировала русского человека по
высшим мерам. При разрушении традиционного образа жизни народ разнуздывался,
ибо не оказывалось удерживающего серединного царства, не вжились скрепы
серединной культуры: чувство ответственности, права, независимости. Когда
сообща и все вместе на благое дело – то и каждый хорош. Как только русский
человек оказывался в развалившемся обществе или в чуждой обстановке – он
терялся, шалел и утрачивал собственный облик. Нетвердость личностного стержня
проявлялась всякий раз при разрушении соборных начал жизни.
А.М. Панченко отмечал, что людям
русской деревенской культуры свойственны универсальность сознания и чувство
хозяина. Это позволяло крестьянину сполна ориентироваться в трудной, но
налаженной сельской жизни, не ставя лишних вопросов. Но ситуация меняется,
когда крестьяне лишаются органичного уклада в результате пролетаризации, что
началось с петровских реформ и захватило миллионы людей в промышленной
революции с середины XX века, особенно в сталинской индустриализации. Человек
попадает в чуждые условия, но полагает, что всё понимает и пытается вести себя
как хозяин. Архаические страсти в люмпенизированных массах прорываются зарядом
революционной агрессии, а вождей – выходцев из крестьян – превращают в
самодуров, уверенных, что они во всём разбираются и способны решать все
проблемы, как на своём «дворе», где все делятся на «своих» и «чужих», где можно
опереться на круговую поруку, личные связи, где отсутствуют законы.
Западный человек, как правило,
бунтует ради конкретной прагматической цели, хотя не всегда осознанной. Цель
эта ограничивает бунт некоторыми пределами, является и движущей, и сдерживающей
силой. Европейский беспорядок несколько упорядочен, там не происходит огульного
попрания всех основ. Русский бунт – это раскрепощение низших инстинктов при
разрушении традиционных устоев, когда в условиях бессмысленного существования и
безнаказанности человек ощущает себя сгустком слепой стихии. В результате
русская доброта, человечность, мягкость оборачиваются жестокостью, склонностью
к насилию. Это не целенаправленное служение злу, а слепая одержимость тёмными
страстями. Русский человек меньше европейского способен на холодную жестокость
во имя порядка или самозащиты: «Допускаю какие угодно жестокости, но на
одном настаиваю: русский человек жесток только тогда, когда выходит из себя.
Находясь же в здравом разуме, он, в общем, совестлив и мягок. В России
жестокость – страсть и распущенность, но не принцип и не порядок» (Ф.А.
Степун).
Пороки русской души являются не
чертами характера, а результатом разрушения человеческого достоинства. Западный
человек сознательно стремится к практическим целям, русского же ведёт чувство
нравственного долга, что в непросветленной или зачумленной душе может
обернуться маниакальностью. Русский народ мог ошибаться, заблуждаться, когда выходил
из себя, но он не был способен осознанно служить низким идеям как таковым.
Он не захватывал территории для грабежа, порабощения или истребления народов,
как европейцы в Африке, Америке, Австралии. Немец может творить величайшие
злодеяния ради «арифметики порядка», француз – влекомый авантюризмом и
болезненным самолюбием, англичанин – в убеждении в своей исключительности,
итальянец – в порыве энтузиазма. Русский человек склонен отдаваться
разрушительным стихиям слепо. Русский бунт – истовый, со сладостным упоением,
ибо выражает остервенелое попрание тяжкого крестонесения жизни, которое в
ослеплении представляется постылыми веригами. Целостный русский характер не
может и не умеет быть фрагментарным, отдаваться чему-то частично, поэтому в
болезненном состоянии тотально подвержен тёмным страстям.
Склонность к разнузданию в
невыносимо трудных ситуациях не является врождённой, но приобретена в
трагической истории. Всякое безумие имеет метафизические причины: это либо срыв
при тяжком бремени сознательно-нравственного бытия, когда душа опрокидывается в
безумие роковыми, фатальными и злыми силами, либо отказ от этого бремени, когда
душа сбегает в безумие от невыносимости жизненной борьбы. В безумии русского
бунта и выражается либо надрыв от бремени жизни, либо бегство от него.
Вместе с тем масштабы злодеяний в
дореволюционной России не сравнимы с европейскими. На Руси невозможно
представить систематическое, целенаправленное массовое истребление людей, как в
испанских аутодафе, альбигойской резне, кострах «ведьм» по всей Европе, при
Столетней войне в Германии или в Варфоломеевскую ночь в Париже. О России
невозможно сказать то, что Вольтер сказал об Англии: «Ее историю должен
писать палач». Никогда русских крестьян не сгоняли с земли, обрекая на
гибель, как в Англии в эпоху первоначального накопления капитала. Подавление
бунтов и восстаний российские власти осуществляли не с европейской жестокостью.
Расстрел 9 января и карательные экспедиции 1905 года не сравнимы с расстрелами
Парижской коммуны.
Николай Бердяев отмечал недостатки
нравственного характера русского человека, обусловленные его
неиндивидуалистической, коллективной ориентацией: «Болезнь русского
нравственного сознания я вижу, прежде всего, в отрицании личной нравственной
ответственности и личной нравственной дисциплины, в слабом развитии чувства
долга и чувства чести, в отсутствии сознания нравственной ценности подбора
личных качеств. Русский человек не чувствует себя в достаточной степени
нравственно вменяемым, и он мало почитает качества в личности. Это связано с
тем, что личность чувствует себя погруженной в коллектив, личность недостаточно
ещё раскрыта и сознана. Такое состояние нравственного сознания порождает целый
ряд претензий, обращенных к судьбе, к истории, к власти, к культурным
ценностям, для данной личности не доступным. Моральная настроенность русского
человека характеризуется не здоровым вменением, а болезненной претензией.
Русский человек не чувствует неразрывной связи между правами и обязанностями, у
него затемнено и сознание прав, и сознание обязанностей, он утопает в
безответственном коллективизме, в претензии ответственности за всех. Русскому
человеку труднее всего почувствовать, что он сам – кузнец своей судьбы. Он не
любит качеств, повышающих жизнь личности, и не любит силы. Всякая сила,
повышающая жизнь, представляется русскому человеку нравственно подозрительной,
скорее злой, чем доброй. С этими особенностями морального сознания связано и
то, что русский человек берёт под нравственное подозрение ценности культуры. Но
всей высшей культуре он предъявляет целый ряд нравственных претензий и не
чувствует нравственных обязанностей творить культуру».
Катастрофические условия жизни
воспитывали в народе не только достоинства. Люди в большинстве своём не
способны выдержать непрерывное перенапряжение, вынуждены иногда сбрасывать
невыносимое бремя испытаний, поэтому могут расслабиться в момент смертельной
опасности, увильнуть от невероятной ответственности, самооправдаться перед
укором совести. Этим объясняется расчеловечение большого количества людей,
разгул разбойной вольницы в смутные времена. В условиях, когда бесконечные
войны истребляли наиболее стойких, психологически защитные механизмы у слабых
людей закреплялись и вплетались в характер народа. Этим объясняется, что «нечёткие,
нетвердые контуры характера у нас есть. Русские много думают, но не умеют
предвидеть, бывают застигнуты врасплох последствиями своих поступков. Для них
характерно самооправдание, извиняющее отказ от стойкости проведения своих
намерений, быстрая покорность судьбе, готовность склониться перед неудачей.
Такая беспомощность и покорность судьбе, превосходящая все границы, вызывает
изумление и презрение всего мира. Не разобравшись в сложной духовной структуре,
– из чего это проистекло, как жило, живет и к чему ещё нас выведет, – бранят
нас извечными рабами, это сегодня модно повсеместно» (А.И. Солженицын).
Но русский человек и в падении
сохранял остатки нравственного чувства, знал, что грешит, и способен был
раскаяться, как Иван Грозный. Это малодоступно самодовольным европейцам,
которые при бесчеловечных жестокостях убеждены в своей правоте. Русский народ в
лучших проявлениях и достойнейших представителях сознавал необходимость
покаяния и духовного очищения, что позволяло обуздывать пороки, ограничивать
злонамерения. Акты покаяния относились в большинстве своём не только к
собственным деяниям – русский человек сознавал и исторические грехи своих
предков, принимая преемственность общенациональной судьбы. Критическое
самовосприятие и взыскательная требовательность к себе сопровождались принятием
общего бремени исторической ответственности. Русский патриот-славянофил А.С.
Хомяков призывал народ к покаянию в исторических грехах, в грехах против Бога:
Не говорите – «То былое,
То старина, то грех отцов,
А наше племя молодое
Не знает старых тех грехов».
Нет, этот грех – он вечно с
вами,
Он в ваших жилах и в крови,
Он сросся с вашими сердцами,
Сердцами, мертвыми к любви…
Молитесь, кайтесь, к небу длани!
За все грехи былых времен,
За ваши каинские брани
Еще с младенческих пелен;
За слезы страшной той годины,
Когда, враждой упоены,
Вы звали чуждые дружины
На гибель русской стороны.
За рабство вековому плену,
За робость пред мечом Литвы,
За Новгород, его измену,
За двоедушие Москвы;
За стыд и скорбь святой царицы,
За узаконенный разврат,
За грех царя-святоубийцы,
За разоренный Новоград;
За клевету на Годунова,
За смерть и стыд его детей,
За Тушино, за Ляпунова,
За пьянство бешеных страстей;
За слепоту, за злодеянья,
За сон умов, за хлад сердец,
За гордость тёмного незнанья,
За плен народа; наконец –
За то, что полные томленья,
В слепой сомнения тоске
Пошли просить вы исцеленья
Не у Того, в Его ж руке
И блеск побед, и счастье мира,
И огнь любви, и свет умов, –
Но у бездушного кумира
И мертвых и слепых богов!
И, обуяв в чаду гордыни,
Хмельные мудростью земной,
Вы отреклись от всей святыни,
От сердца стороны родной!
За все, за всякие страданья,
За всякий попранный закон,
За тёмный грех своих времен,
За все беды родного края –
Пред Богом благости и сил
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он
простил!
«Нет, поистине, никогда ни один
народ не судил себя так откровенно, так строго, так покаянно; не требовал от
себя такого очищения и покаяния. И не только требовал, а осуществлял его и этим
держал своё бытие и свой быт» (И.А. Ильин).
Русский патриотизм
У русских сильно чувство любви к
Родине, Отечеству, которые неотделимы от отношений к своему государству. И.Л.
Солоневич вслед за Ф.М. Достоевским отмечал патриотизм русского человека, «любовь
к родной земле, за которую мы лезли на все мыслимые рожны и ломали все мыслимые
рожны», проявляя при этом чудеса героизма, жертвенности ради Отечества. «Безусловно,
русская черта – привязанность к России в целом и к родным местам, к языку, к
соотечественникам. Отсюда – ностальгия, тоска по родине, если теряешь её даже
на непродолжительное время. Быть за границей любопытно, но неуютно, несмотря на
бытовые удобства: тянет домой, к родным устоям, за которые привычно держаться.
Неистребима потребность в общении с близкими (пусть первым встречным) – не
просто в обмене информацией, а в стремлении излить душу, вести доверительный
разговор, когда тебя понимают и ты понимаешь с полуслова, а то и вовсе без слов
– глазами, жестом, мимикой, ибо и так всё ясно, хотя говорить можно без конца»
(А.В. Гулыга). Поэтому русские болезненно переживают отъезд из России навсегда.
Чтобы жить на чужбине, русский человек должен умереть и родиться заново –
совершенно другим.
Русским было свойственно чувство
национального «Я». Русский – государственник не по этатистским, а по
религиозным ощущениям родины. Для России характерно единство религиозной и
национальной идеи: «Москва – орудие Господа Бога, сосуд, избранный для
хранения истинной веры до окончания веков, и для всех народов и людей мира»
(И.Л. Солоневич). Поэтому Москва думала о всем мире и об истине для всего мира.
«Настоящая реальность таинственной русской души – её доминанта – заключается
в государственном инстинкте русского народа, или, что почти одно и то же, в его
инстинкте общежития… Это свойство я бы назвал так: умение уживаться с людьми.
Уживчивость, но с некоторой оговоркой: “не замай”. При нарушении этой оговорки
происходит ряд очень неприятных вещей – вроде русских войск в Казани, в
Бахчисарае, в Варшаве, в Париже и даже в Берлине. Русскую государственность
создали два принципа: а) уживчивость и б) “не замай”» (И.Л. Солоневич).
Особенно драматичными для русского
человека оказывались времена разрушения государственности. Ибо сильное
государство было для русских людей формой самосохранения и выживания в
суровейших исторических условиях. Поэтому государственные институты имели большее,
чем в Европе, значение: государство было каркасом жизненного космоса, было
более сакральным в общественном сознании и более всеобъемлющим. Государство для
русского человека есть «живое нравственное сообщество, организм
солидарности, совместной жизни людей, вольной и справедливой: нравственно
безликое государство может только возмутить его; он пытается привнести любовь в
государство и в политику, он спрашивает о религиозном полномочии государства и,
если такового не находит, готов отречься от него. Мудрому европейцу это может
показаться наивным и детским, он лишь улыбнется и пожмет плечами. Русский же
хочет знать, что право, государство, политика произрастают из глубины святых
корней духа, предстают перед ликом Божиим, освящены любовью, связаны братством,
требуют справедливости, являются своего рода одной большой семьею» (И.А.
Ильин). Поэтому государственность в целом воспринималась не как блюститель
закона, а как духовно авторитетный институт, венчающий традиционный жизненный
уклад. Это не исключало критического отношения к некоторым государственным
институтам. Носителем государственной идеи была верховная власть – монархия. Но
русское государственническое жизнеощущение далеко от тоталитаризма – всевластия
государства. В русском сознании государство – это не столько система
принуждения и наказания, сколько инстанция отеческой защиты, мобилизующая через
чувство общенационального долга. Поэтому индивидуальные интересы всегда были
подчинены нуждам мира, земли, государственного бытия.
Никакие цивилизационные новшества
не могли выбить из русского человека патриархального ощущения единства родной
земли, которая объединяет русский народ-семью. Об этом свидетельствует и «типичное
для русского склада ума использование обозначений родственных связей при
вежливом обращении к незнакомцам. Обращение вроде “отец”, “дядя”, “брат” и
соответствующие слова женского рода – постоянно на устах русского простолюдина
в разговоре как со знакомыми, так и незнакомыми людьми. Из богатого запаса
обозначений родственных отношений наиболее подходящее слово выбирается в
зависимости от возраста или нравственного и социального облика того, к кому
обращаются. Таким образом, вся социальная жизнь становится как бы расширенной
семейной жизнью, и все взаимоотношения между людьми поднимаются до уровня
кровного родства. Это имеет огромное значение для понимания русской
общественной этики. Сельская русская община, или “мир”, издревле основывалась
не на кровном родстве, а на соседстве и общем землевладении. Тем не менее,
“мир” воспринял от рода теплоту и патриархальность образа жизни. В идеале вся
русская нация могла в старину рассматриваться как огромный “клан”, или “род”,
отцом которого был царь» (Г.П. Федотов).
Государственный инстинкт русского
человека делал его природным монархистом – стремящимся к созданию единодержавной
власти, стоящей над сословиями и выражающей общенациональные интересы,
подчиняющейся голосу религиозной совести. Без тяготения к монархическому укладу
русский народ не выжил бы и русская государственность не просуществовала бы
тысячу лет. Монархической доминантой русского характера, а не заимствованиями,
не навязыванием, не историческими условиями и не волей отдельных людей можно
объяснить факт тысячелетней княжеско-царской власти. Русский человек должен «чувствовать
себя в конфессиональном единении с главой государства; должен иметь во главе
государства такого человека, которому требуется от народа любовь и доверие и
которому народ имеет все основания оказывать любовь и доверие; тогда где-то в
глубине души государство представляется русскому чем-то вроде великой семьи,
Родина – матерью, царь или император – отцом; и это религиозное, выдержанное в
патримониальном духе правовое сознание в ходе веков привело русское государство
к монархической форме… Между царем и народом существовала, так сказать,
религиозно-нравственная пуповина… Образ царя укреплял правосознание народа, а
образ народа облагораживал и формировал правосознание царя» (И.А. Ильин).
Вместе с тем двуполюсность русского
духа «ни в чём не ощущается так резко, как в вопросе о власти. Божье и
Антихристово подходят друг к другу вплотную, без всякой буферной территории
между ними: все, что кажется землей и земным, – на самом деле или Рай, или Ад;
и носитель власти стоит точно на границе обоих царств. То есть это не просто
значит, что он несет перед Богом особую ответственность, – такая тривиальная
истина известна всем. Нет, сама по себе власть, по крайней мере власть самодержавная,
– это нечто, находящееся либо выше человеческого мира, либо ниже его, но, во
всяком случае, в него как бы и не входящее. Благословение здесь очень трудно
отделить от проклятия» (С.С. Аверинцев). В больном состоянии
царь-батюшка обращается в отца народов, самодержец милостью Божией становится
тираном Божиим попущением, но монархический инстинкт неискореним в
русской душе: «В русской психологии никакого анархизма нет. Ни одно массовое
движение, ни один “бунт” не подымался против государственности. Самые страшные
народные восстания – Разина и Пугачева – шли под знаменем монархии, и притом
легитимной монархии… Многочисленные партии Смутного времени – все – выискивали
самозванцев, чтобы придать легальность своим притязаниям – государственную
легальность. Ни одна партия этих лет не могла обойтись без самозванца, ибо ни
одна не нашла бы в массе никакой поддержки» (И.Л. Солоневич).
Антимонархическое сознание сформировалось в дворянстве и интеллигенции.
Монархическое сознание
продуцировалось и некоторыми свойствами национального характера, в частности
эмоциональностью и страстностью одаренной натуры, которая нуждалась в источнике
твердой волевой упорядоченности. «От Бога и от природы русский народ одарен
глубоким религиозным чувством и могучим политическим инстинктом. Богатства его
духовных недр могут сравниться только с богатствами его внешней природы. Но эти
духовные богатства его остаются подспудными, нераскрытыми, как бы не поднятою и
не засеянною целиною. На протяжении веков Русь творилась и строилась инстинктом,
во всей его бессознательности, неоформленности и, главное, удобосовратимости.
Страсть, не закрепленная силою характера, всегда способна всколыхнуться,
замутиться, соблазниться и рвануться на ложные пути. И спасти её только и
может, по глубокому слову Патриарха Гермогена, “неподвижное стояние” в правде
народных вождей. Русский народ, по заряду данных ему страстей и талантов и по
неукреплённости своего характера, всегда нуждался в сильных и верных вождях,
религиозно-почвенных, зорких и авторитетных. Эту особенность свою он сам всегда
смутно чуял и потому всегда искал себе сильных вождей, верил им, обожал их и
гордился ими. В нем всегда жила потребность найти себе опору, предел, форму и
успокоение в сильной и благой воле призванного к власти повелителя. Он всегда
ценил сильную и твердую власть; он никогда не осуждал её за строгость и
требовательность; он всегда умел прощать ей все, если здоровая глубина
политического инстинкта подсказывала ему, что за этими грозами стоит сильная
патриотическая воля, что за этими суровыми понуждениями скрывается большая
национально-государственная идея, что эти непосильные подати и сборы вызваны
всенародною бедою или нуждою. Нет пределов самопожертвуемости и выносливости
русского человека, если он чует, что его ведёт сильная и вдохновенная
патриотическая воля; и обратно – он никогда не шел и никогда не пойдет за
безволием и пустословием, даже до презрения, до соблазна шарахнуться под власть
волевого авантюриста» (И.А. Ильин).
Государственнический инстинкт
народа был механизмом самозащиты в суровых условиях выживания. Но чрезмерно
централизованная власть создавала благоприятные условия для злоупотреблений и
разнуздания властной элиты. Многие трудности и катастрофы русской жизни вызваны
самодурством правителей. Поскольку верховная власть воспринимается русским
народом более сакрально, чем в Европе, то преступления власти, то есть её
десакрализация, пробуждают в народе агрессивные стихии. В силу поляризации
характера в народе «два начала – милосердие и жестокость – постоянно сменяют
друг друга… Однако в душе православного народа милосердие и жестокость имеют
разные права на существование. Для того чтобы проявления варварства не
воспринимались самим народом как преступление, нужна санкция извне, “сверху”. И
уж тогда варварство выходит из-под контроля даже того, кто дал первоначальную
санкцию» (Г.А. Анищенко). Когда государство чрезмерно нарушало необходимые
пределы власти и невыносимо давило (как при опричнине Ивана Грозного), или
лишалось легитимности (как при убийстве Петра III, отозвавшемся пугачевщиной),
либо слабело и рушилось (как в Смутное время), – разваливался авторитет не
только ограничений, запретов и повелений, но и основных жизненных идеалов.
Народ деградировал, рушил жизненный уклад и мстил всем и себе за это. При отсутствии
сурового, но справедливого дисциплинирующего духовного авторитета народ впадал
в смуту.
Нарушал или разрушал охранительный
государственный порядок всегда правящий слой, народ отвечал на это русским
бунтом. «Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный.
Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают
нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и
своя шейка копейка» (А.С. Пушкин). Какие качества русской души
подразумевает Пушкин, когда говорит, что бунт русского человека – бессмысленный
и беспощадный? Не беспощаден ли и бессмыслен всякий бунт всякого народа?
Очевидно, у знатока человеческой души были основания выделить в этом смысле
бунт русского человека.
Отчасти беспощадность бунтарства
связана с долготерпением русского человека: «Русский народ очень терпелив и
терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не
может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость» (А.Н. Радищев). Чем
больше сдерживается накапливаемая агрессия, тем сильнее её взрыв, когда рушатся
внешние и внутренние преграды для неё.
Необходимо учитывать и специфически
русское переживание свободы как воли. Если западный человек стремится к
завоеваниям формальных прав и свобод, зафиксированных юридически, то русскому
человеку менее интересны внешние правовые свободы. Для него ценен внутренний
аспект свободы – свободы самоопределения, что возможно и в условиях внешнего
закрепощения. Русский стремится к воле вольной, по воле пожить, к
самореализации по органичной потребности сердца, а не по внешним предписаниям. Волевое
самоопределение в органичных жизненных условиях, при наличии традиционных
духовных авторитетов было ориентировано ко благу и поэтому играло роль мощного
созидательного фактора. Западный образ жизни воспитывал правосознание: без
осознания своих прав западный человек – индивидуалист по природе – не может
самореализоваться, а без уважения к правам других он не сможет выжить, ибо
погибнет в борьбе всех против всех на узких европейских пространствах. Суровая
соборная русская культура больше воспитывала сознание долга, нежели прав,
поэтому на Руси было слабо развито правосознание. В итоге разрушение
традиционной системы авторитетов и ценностей при недостатке внутренней дисциплины
правосознания приводило к тому, что воля вольная оборачивалась своеволием,
разнузданием – освобождением от всяческих обязательств, ввергала страну в
анархию и хаос.
Аскетическая уравновешенность
Эсхатологическая установка
сказывалась в том, что русский человек аскетичен, не столь высоко ценил бренную
плоть. Русский умел довольствоваться необходимым минимумом благ, ибо только так
можно было выжить. Идеализм и суровая жизнь приучили к самоограничению. В
русской жизни не было распространено накопительство, стремление к обогащению
любой ценой и трата всех сил на материальное благоустройство. Всякий человек не
может быть равнодушным к материальным ценностям, которые облегчают жизнь. Но в
суровых условиях богатство приобретается, как правило, неправедными средствами.
Поэтому не было европейского пиетета перед собственностью и богатством, не
могло быть приоритета денег. Русский человек не гнушался обустраивать свой дом,
преумножать богатство, но материальное стяжание не являлось общественным
идеалом. В государственном и хозяйственном строительстве, как и в возведении
своего дома, преобладало стремление реализовать некий идеал.
«Для русского восприятия
христианства очень существенно трезвое чувство “нераздельности”, но и
“неслитности” мира божественного и человеческого» (В.В. Зеньковский).
Русский стремится не к богатству, а к достатку. «У европейцев бедный никогда
не смотрит на богатого без зависти; у русских богатый зачастую смотрит на
бедного со стыдом. У западного человека сердце радостнее бьется, когда он
обозревает своё имущество, а русский при этом чувствует порой угрызения
совести. В нем живо чувство, что собственность владеет нами, а не мы ею, что
владеть значит быть в плену того, чем владеешь, что в богатстве чахнет свобода
души, а таинство этой свободы и есть самая дорогая святыня» (В. Шубарт).
Принцип аскетической достаточности и самоограничения действовал и в редкие
периоды благополучия – во имя накопления сил в борьбе за выживание и для более
насущных жизненных целей. На низшем уровне эти качества сказывались в
агрессивности по отношению к богатым, в неуважении к праву собственности. На
селе зажиточный крестьянин нередко слыл мироедом, кулаком, у
богатого – помещика или кулака – «можно» украсть, ибо к этому относились как к
«справедливому» перераспределению. Русский – не скуп, но бережлив, замаистый
– что наше, то наше, – запасливость воспитывалась веками лихолетья и
суровыми условиями жизни.
И по земным, и по небесным мерам
богатство – неправедно. Поэтому «русский вкушает земные блага, пока они ему
даются, но он не страдает своим внутренним существом, если приходится ими
жертвовать или лишиться их… Нигде в мире не расстаются так легко с земными
благами, нигде столь быстро не прощают их хищений и столь основательно не
забывают боли потерь, как у русских. С широким жестом проходят они мимо всего,
что представляет собой только земное… По сей день европейца, путешествующего по
России, поражает равнодушие людей, даже молодежи, к внешним дарам жизни, к
одежде, гурманству, славе, имуществу» (В. Шубарт). Пьер Безухов у Льва
Толстого рассуждает о русской душе, которой присуще «исключительно русское
чувство презрения ко всему условному, искусственному, человеческому, ко всему
тому, что считается большинством людей высшим благом мира… это странное и
обаятельное чувство… что и богатство, и власть, и жизнь, все, что люди с таким
старанием устраивают и берегут, – всё это ежели и стоит чего-нибудь, то только
по тому наслаждению, с которым всё это можно бросить». В общественном
мнении достоинства человека измерялись по внутренним качествам, а не
материальным положением. «Русское отношение к собственности связано с
отношением к человеку. Человек ставится выше собственности. Бесчестность есть
обида, нанесенная человеку, а не обида, нанесенная собственности. В западном
буржуазном мире ценность человека слишком определялась не тем, что есть
человек, а тем, что есть у человека… Русские суждения о собственности и
воровстве определяются не отношением к собственности как социальному институту,
а отношением к человеку» (Н.А. Бердяев).
Хозяйствование крестьянского
большинства населения определялось суровыми условиями жизни, которые не
способствовали развитию института частной собственности и накоплению богатства,
необходимых для процветания страны. «В экономике русский крестьянин очень
консервативен, скептически воспринимает он всякие новшества – от плуга до
машины – и тянется к тому, чтобы хозяйствовать по издревле заведенной традиции.
К тому же история не баловала его реальной частной собственностью. И не потому,
что он склонен к социализму или коммунизму. Напротив. Столетиями сражался он с
чужеземными вторжениями, отнимавшими результаты его труда или превращавшими их
в пепел, только для того, чтобы, в конечном счете, два столетия кряду влачить
бремя крепостного права, которое было для него владением земли наполовину,
ответственностью за неё наполовину, и даже после того, как в 1861 году царским
манифестом Александра II крепостничество было отменено, крестьянин оставался
под опекой сельской общины, которая через определённые интервалы времени имела
право, частично и в судебном порядке, проводить новый раздел земли с учетом
душ, что опять же не привело ни к настоящей полной частной собственности, ни к
полной ответственности, ни к подлинной свободе, ни к эффективным инвестициям»
(И.А. Ильин).
Внемирская ориентация русского
человека воспитывала смиренное восприятие жизни. «Свобода немыслима без
смирения. Русский свободен, поскольку он полон смирения; а смиренным становится
человек, который чувствует свою связь с Богом. “Велика Россия смирением своим”
(Достоевский). Тут европеец уже не может понять русского, поскольку не видит
разницы в понятиях “смирение” и “унижение”. Кто смиряется – тот унижается, а
кто унижается – тот раб. Как это смирение может быть шагом к свободе? – вот
заключение человека, полностью отдавшегося земле… Сегодняшний европеец и
слышать не желает о смирении; он с презрением предоставляет это восточным
расам» (В. Шубарт). Западный человек стыдится смирения и терпимости как
проявлений слабости. В русском характере смирение не отменяет силы и воли, но
свидетельствует о благородности духа.
Смирение в русском человеке нередко
сопровождается чувством вины. «Поскольку русское ощущение направлено на
конечность всего сущего, русского сопровождает никогда не притупляющееся в нем
чувство вины. На него давит вина, что он всё ещё живет в земном мире. Поскольку
исповедь и раскаянье облегчают душу, он страдает от страсти признать себя
виновным и искупить вину. В то время как европеец стремится оправдаться,
похвалиться своей силой, выглядеть значительнее того, чем он есть на самом
деле, – русский не только открыто признается в своих ошибках и слабостях, но
даже преувеличивает их, не из тщеславия, а из стремления к духовной свободе. По
отношению к собственной персоне он честнее европейца (по отношению к вещам –
наоборот). В этом ощущении вины у русского коренится и его жажда страданий. Он
хочет страдать, поскольку страданье уменьшает бремя вины. Так он становится
мастером страданий, даже наслаждаясь ими… Европеец в несчастье быстрее впадает
в уныние, но и выкарабкивается из него быстрее – потому что страданье для него
невыносимо, он предпринимает все усилия, чтобы преодолеть его. Русский же,
наоборот, нужду переносит спокойно, свыкается с ней, затем начинает её любить
и, в конце концов, гибнет с наслаждением» (В. Шубарт).
Далее немецкий философ
глубокомысленно рассуждает об истоках русской жертвенности: «Из этого
чувства вины рождается мысль о жертвенности как центральная идея русской этики.
Только жертва открывает путь, ведущий из мира здешнего в мир иной. Без смерти
нет воскресения, без жертвы нет возрождения. Это то, что я называю русской
пасхальной идеей, которая, наряду с мессианскими ожиданиями, является
характерной для русского христианства. Пасха, а не Рождество, является главным
русским церковным праздником, и также не случайно, что в русском языке
воскресенье и Воскресение имеют одно и то же название. Каждый седьмой день
недели утешает русского напоминанием о близящемся конце преходящего. – Граждане
других наций тоже способны на жертву. Это доказывают великие мгновенья их
истории. Но они жертвуют собой ради определённых целей, а не ради жертвы как
таковой. Это и отличает их от русских. Только русский знает и подчеркивает
самоценность самой жертвы. Она даёт ему оправдание не посредством других
ценностей, а светит собственным светом. Русский ставит акцент на ценности
самого акта, а не его результата. Он – человек души, обращенный внутрь себя, а
не человек дела, обращенный на окружающий его мир» (В. Шубарт). В безбожной
душе русской интеллигенции жертвенность приобретала отблески не
эсхатологического воскресения, а апокалиптического разрушения: «До 1917 года
представители русской интеллигенции, охваченные революционным чувством, были
одержимы настоящей страстью принести себя в жертву народу. Они просто толпились
в очереди к пыточному столбу. Но когда их арестовывали и сажали в камеру, они
больше не ломали голову над исходом своего дела, они сделали своё и были этим
удовлетворены. Неудача не сгибала их. “Какое нам дело до мирского!” – нечто
подобное втайне испытывали и революционеры-атеисты. Отсюда то спокойствие души,
которое наступало среди политических узников царских тюрем. Это были люди с
ощущением счастья, но редко – люди успеха» (В. Шубарт).
Суровые климат и природа, тяжкий
труд на малоплодородных почвах, а также необходимость постоянной военной защиты
воспитывали в русском человеке терпение и упорство. Эти качества усиливались
православным воспитанием: «Природная стойкость поднималась до христианского
долготерпения, из национального инстинкта рождалась религиозная готовность и
христианская традиция» (И.А. Ильин). Всё это делало русских непобедимыми в
защите своего Отечества. Всякое поражение было временным и вызывало мобилизацию
защиты. «Так русские веками учились и научились искусству побеждать:
отступая, не сгорать в земном пожарище, на руинах воздвигать новое хозяйство,
духовно обновляться в беде и смятении, не терять мужества при распаде, трезво
смотреть на вещи в страданиях и молиться; жить в лишениях, собирая духовную
жатву, опять возрождаться, как феникс, восставая из пепла, созидать на руинах и
развалинах и, начиная с нуля, быстро набирать силы и неустанно творить»
(И.А. Ильин).
Своеобразие самоощущения большого
народа в том, что он не склонен к тесной групповой привязанности и
взаимоподдержке, что необходимо для самосохранения небольших народов. Отсюда и
знаменитое русское разномыслие: где двое русских – там три партии. Малые
народы вынуждены унифицироваться, ибо разброс позиций разъединяет и ослабляет в
борьбе за самосохранение. Психея большого народа, освоившего огромный
разнообразнейший материк, вмещает и противоположности, и антагонизмы.
Доминирует ощущение: нас много, наш жизненный космос велик, и мы можем себе
позволить самозабвенно поспорить и даже побороться друг с другом по главным
вопросам, что нередко вызывало разброд в стране.
В силу большей эмоциональности
русскому человеку свойственны открытость, задушевность в общении. Прирожденными
чертами русского характера являются «открытость, прямодушие, естественная
непринужденность, простота в поведении, великодушие (“Мы не умеем долго
ненавидеть” – Ф. Достоевский); уживчивость, легкость человеческих отношений,
отзывчивость, способность всё “понять”, размах способностей и широта характера»
(А.И. Солженицын). Если в Европе люди достаточно отчуждены и оберегают свой
индивидуализм, то русский человек открыт к тому, чтобы им интересовались,
проявляли к нему интерес, опекали, равно, как и сам склонен интересоваться
окружающими: и своя душа нараспашку, и что за душой у другого. Такие качества
по-разному проявляются в добром и злом характерах. Европеец заботится о слабых
и обездоленных из чувства долга, он не склонен их жалеть и даже не очень любит.
Русский же помогает из жалости. В русском мало своекорыстной хитрости, но ему
свойственна подозрительность. Русская хитрость проявляется не в поисках выгоды,
а от азарта, это форма своего рода деловой смекалки. Чужое встречается
недоверчиво: не наше – значит худое, зато своё русское – синоним доброго.
В эмоциональной русской душе
чередуются состояния приливов и отливов, когда бурная деятельность меняется
покоем. «В буднях отлива русский предстает ровным и естественным, легким и
добродушным. Вероятно, большой обширности пространства и малой плотности
населения обязан русский (среди прочего) этими свойствами… Столь низкая
плотность населения снимает с человеческой души напряженность и скованность:
то, что пространство начинает, разделение этого пространства завершает»
(И.А. Ильин). В обыденной жизни русский человек органичен и естественен. «Русский
в жизни спокоен и расслаблен. Его походка легка: он не несется, он не тащится,
он не марширует, он не шествует; он идёт так, как идётся само по себе –
неброско, естественно, с расслабленными мышцами; примечательно, что русский на
чужбине может узнать земляка по походке» (И.А. Ильин).
О мужском и женском
Душа человека и народа содержит
мужскую и женскую природы. Мужское начало является носителем активности,
деятельности самих по себе. Вечная женственность – это потенция бытия, материя,
начало пассивное, охранительное. Подлинно творческий акт гармонично соединяет
оба начала: материя и безграничные возможности вечной женственности выявляются
и оформляются активным действием вечномужественного. Душа, обладающая одним
началом, – нежизнеспособна, при сверхдоминировании одного из них – душа
ущербна. Предельно женственное существо обречено на пассивность,
непроявленность, неоформленность. Гипертрофированно-мужественное существо
тяготеет к разрушению, вплоть до самоистребления. Степень выраженности мужского
и женского начал, а также их баланс и гармоничность отношений друг с другом во
многом определяют природу и характер человека и народа. В богатых душах сильно
выражены оба начала, в наиболее цельных – одно из них преобладает, не подавляя
другого. Творческая душа является амбивалентной, с некоторым преобладанием
мужского, ибо женское открывает глубины бытия, а мужское призвано в творческом
акте объять и оформить материю. Сильное проявление обоих полюсов чревато
внутренними противоречиями и неустойчивостью общего состояния, их доминирование
может меняться – отчего душа склонна к перманентной двойственности.
Можно определить душу греческого
народа как явно амбивалентную, в которой мужская и женская природы предельно
выражены и развиты, при этом доминирование одной из них меняется. Поэтому
греческий творческий гений проявил себя во многих областях культуры, философии,
литературы, а также в общественном и государственном строительстве. Излишняя
женственность греческой души сказывалась в культе мужской любви, с одной
стороны, и института гетер – с другой. Греческая женственность не позволила
создать сильную государственность, способную защитить независимость народа.
Понадобилась реакция на женскую расслабленность греческой души мужественной македонской
составляющей, чтобы греческая культура не только сохранилась, но и была волево
распространена Александром Македонским почти на всю Ойкумену. В сравнении с
амбивалентными греками характер римлян был монистичен, в нем преобладала
мужественная составляющая. Это позволило им завоевать огромные территории,
создать величайшую империю. Но гипертрофия мужского начала перекрыла
возможности для культурного творчества, отчего римляне остались эпигонами
греков во всём, кроме права, которое выражало стремление мужского начала
оформить достижения римской цивилизацией.
В немецком народе сильно выражена
женственная стихия, что способствовало созданию великой и многогранной
германской культуры. Но преобладало в германском духе мужское начало, которое
способствовало, с одной стороны, многим завоеваниям, с другой, наделяло
немецкий характер и образ жизни рационализмом, упорядоченностью и стабильностью
(немецким порядком), позволявшим народу сохраниться вопреки внутренним
противоречиям и внешним угрозам. Нередко мужское начало чрезмерно доминировало
в немецкой душе, и немецкая воля к наведению порядка обращалась вовне: «Пред
немецким сознанием стоит категорический императив, чтобы всё было приведено в
порядок. Мировой беспорядок должен быть прекращен самим немцем, а немцу всё и
вся представляется беспорядком. Мировой хаос должен быть упорядочен немцем, всё
в жизни должно быть им дисциплинировано изнутри. Отсюда рождаются непомерные
притязания, которые переживаются немцем как долг, как формальный,
категорический императив. Свои насилия над бытием немцы совершают с моральным
пафосом. Немец не приобщается к тайнам бытия, он ставит перед собой задачу,
долженствование. Он колет глаза всему миру своим чувством долга и своим умением
его исполнять. Другие народы немец никогда не ощущает братски, как равные перед
Богом, с принятием их души, он всегда их ощущает как беспорядок, хаос, тьму, и
только самого себя ощущает немец как единственный источник порядка,
организованности и света, культуры для этих несчастных народов. Отсюда органическое
культуртрегерство немцев. В государстве и в философии порядок и организация
могут идти лишь от немцев, остальное человечество находится в состоянии
смешения, не умеет отвести всему своего места… Немцы не довольствуются
инстинктивным презрением к другим расам и народам, они хотят презирать на
научном основании, презирать упорядоченно, организованно и дисциплинированно.
Немецкая самоуверенность всегда педантическая и методологически обоснованная»
(Н.А. Бердяев).
Это писалось в годы Первой мировой
войны, за два десятилетия до апогея немецкого расизма. «Трагедия германизма
есть, прежде всего, трагедия избыточной воли, слишком притязательной, слишком
напряженной, ничего не признающей вне себя, слишком исключительно мужественной,
трагедия внутренней безбрачности германского духа. Это трагедия,
противоположная трагедии русской души» (Н.А. Бердяев). Конечно,
мужественный германский дух видел в безбрежных просторах России только «вечно
бабье в русской душе», что было причиной войн и сложных отношений Германии с
Русским Востоком. «Немцы давно уже построили теорию, что русский народ –
женственный и душевный в противоположность мужественному и духовному немецкому
народу. Мужественный дух немецкого народа должен овладеть женственной душой
русского народа. Вся теория построена для оправдания германского империализма и
германской воли к могуществу. В действительности русский народ всегда был
способен к проявлению большой мужественности, и он это докажет и доказал уже
германскому народу. В нем было богатырское начало. Русские искания носят не
душевный, а духовный характер. Всякий народ должен быть мужественным, в нем
должно быть соединение двух начал. Верно, что в германском народе есть
преобладание мужественного начала, но это скорее уродство, чем качество, и это
до добра не доводит… В эпоху немецкого романтизма проявилось и женственное
начало… Воле к могуществу и господству должна быть противопоставлена
мужественная сила защиты» (Н.А. Бердяев).
По этим же причинам очень разнятся
немецкая и русская религиозность, причем русское религиозное мироощущение
гораздо ближе к христианскому, чем немецкое: «Это – чисто арийская,
антисемитическая религия, религия гладкого и пресного монизма, без безумной
антиномичности, без апокалипсиса. В этой германской религии нет покаяния и нет
жертвы. Германец менее всего способен к покаянию. И он может быть
добродетельным, нравственным, совершенным, честным, но почти не может быть
святым. Покаяние подменяется пессимизмом. Германская религия относит источник
зла к бессознательному божеству, к изначальному хаосу, но никогда не к
человеку, не к самому германцу. Германская религия есть чистейшее
монофизитство, признание лишь одной и единой природы – Божественной, а не двух
природ – Божественной и человеческой, как в христианской религии. Поэтому, как
бы высоко, по видимости, эта германская религия не возносила человека, она, в
конце концов, в глубочайшем смысле отрицает человека как самобытное религиозное
начало. В этом чисто монистическом, монофизитском религиозном сознании не может
быть пророчеств о новой жизни, новой мировой эпохе, о новой земле и новом небе,
нет исканий нового града, столь характерных для славянства. Немецкая
монистическая организация, немецкий порядок не допускают апокалиптических
переживаний, не терпят ощущений наступления конца старого мира, они закрепляют
этот мир в плохой бесконечности. Апокалипсис германцы целиком предоставляют
русскому хаосу, столь ими презираемому. Мы же презираем этот вечный немецкий
порядок» (Н.А. Бердяев).
Драма русского народа в том, что он
наделён явно творческой душой со всеми сложностями и противоречиями амбивалентного
характера. Мужское начало по большей части преобладало в русской душе, ибо без
этого невозможно было бы защититься от бесконечных нашествий, освоить
безбрежные просторы, создать огромное государство и великую культуру. Но
доминирование не было чрезмерным, поэтому русский народ не стремился к
завоеваниям и не угнетал присоединенные народы. Возвышение мужского начала было
нестабильным, иногда женская стихия перехлестывала, и русская жизнь погружалась
в состояние безвольности, рассредоточенности, неупорядоченности, что
заканчивалось распадом и русским бунтом. Сверхнапряжённая судьба
требовала от народа напряжения мужского характера, но угнетала мужскую
составляющую и провоцировала разлив женственной стихии. Если душе не хватает
сил мужественно сопротивляться невзгодам, она склонна защититься от них в
женственной демобилизации, расслабленности, слабохарактерности, в истерическом
вытеснении реальности в фантазмы.
Женственная доминанта выражается в
том, как русский человек именовал свою Родину – матушка Русь, или
главную свою реку – Волга-матушка. Иван Ильин отмечал, что женственная
стихия в русском народе усиливалась влиянием безграничных и разнообразных
пространств, настраивающих на ощущение беспредельного многообразия,
оттачивающих душевную чуткость. Вместе с тем борьба за существование в суровом,
резко меняющемся климате культивировала мужественную активность, закаленность. «Беспредельное…
стремится к вам в душу отовсюду, заставляя её изведать, стать причастной к этой
безграничности, бесформенности, неисчислимости богатства. Нервная система в
таком случае напряжена и как бы заряжена, становится предельно чувствительной и
вынуждена, именно вынуждена, к поиску и обретению равновесия. Жизнь становится
интенсивной и цепкой, протекая, тем не менее, в эпическом спокойствии. Человеку
приходится постоянно зреть, вникая во все, что происходит вокруг. В результате
он становится интуитивно богаче, приспособлённее, изобретательнее, напористее.
К этому надо присовокупить ещё и славянский темперамент, особенно склонный к
интенсификации» (И.А. Ильин). К тому же «славянская,
неброско-гармоничная, благожелательно настроенная душа» прошла грозную
школу татаро-монгольского ига, способствующую стремлению к христианскому
очищению и самоуглублению. В результате судьба народа способствовала тому, что
русская душа «в избытке вобрала в себя и целиком поглотила лучи
вечно-женственного, подвергнувшись лучам вечно-мужественного в гораздо меньшей,
более ограниченной мере» (И.А. Ильин).
О чрезмерной женственности русской
души писал и Н.А. Бердяев: «Великая беда русской души в… женственной
пассивности, переходящей в “бабье”, в недостатке мужественности, в склонности к
браку с чужим и чуждым мужем. Русский народ слишком живет в
национально-стихийном коллективизме, и в нем не окрепло ещё сознание личности,
её достоинства и её прав. Этим объясняется то, что русская государственность
была так пропитана неметчиной и часто предавалась инородным владычествам».
Эта характеристика верна по отношению к ослабленным и болезненным состояниям
национальной души. Суровые условия не допускали женственной изнеженности,
безвольной неперсонифицированности. Что касается пропитанности неметчиной,
то женственная открытость русской души в гармоничном сочетании с
мужественностью позволяла принимать влияния и вливания, сохраняя
самоидентификацию. Инородных владычеств, которые бы принимались народом,
было одно – польское в Смутное время XVII века, – в силу патологии мужского и
болезненной гипертрофии женского. В остальных случаях владычества заканчивались
волево-мужественным прекращением.
Женственная природа в национальной
душе раскрывалась и утончалась в истории: «Внутренний жизненный акт
становился в структуре своей всё чувствительнее и созерцательнее, всё
восприимчивее и мечтательнее; всё мелодичнее и поэтичнее; всё глубже верующим и
молящимся; всё более экстенсивным и пассивным; во всех аспектах жизни –
созерцательно-спокойным; не склонным к соблюдению жёстких правил обихода;
способным к долготерпению; ярко проявляющим свою волю в делах службы и
исполнительства; чувствующим себя счастливым только в откровенном, нараспашку,
излиянии своего сердца другому, а также взыскующим, из глубочайших внутренних
побуждений, вокруг себя красоты – в слове, линии, строении, краске, напеве»
(И.А. Ильин). При этом характер народа не коснеет, но «оказывается предельно
гибким, податливым ковке, разнообразным. Вечно-женственное, собственно, и
делает его гибким, многосторонним и ковким, – молот судьбы имеет в его лице
благодарный, довольно стойкий материал духа» (И.А. Ильин).
Диалектика мужского–женского многое
выстраивает в русской жизни: «Русская душа пронизана и оплодотворена лучом
вечно-женственного, но везде, во всех сферах жизни ищет она норму
вечно-мужественного… Вечно-женственное ей дано, а вечно-мужественное – задано»
(И.А. Ильин). В этом измерении русская душа отличается от европейской, «которой
постепенно угрожает декаданс вечно-мужественного: формализм, заорганизованность,
чрезмерная трезвость, жесткая интенсивность, рационалистская проза,
эмпиристский релятивизм, безверие, революционный и воинственный дух» (И.А.
Ильин). Особым образом сказывается женская стихия в русском мужчине и
мужественная стихия в русской женщине: «Русский мужик носит в себе задатки
вечно-женственного по-мужски и мужским образом. Да, он склонен к соблюдению
статус-кво, к пассивному и спокойному восприятию вещей как они есть, к
спасительной хитроватости; он необычайно динамичен, быстр, наступателен;
подумает, прежде чем что-либо сказать; семь раз отмерит, прежде чем раз
отрезать… Добродушная, пассивная дрема – его слабость даже тогда, когда он
необычайно деятелен… Только очень часто его мужеская интенсивность дремлет в
нем в экстенсивной форме; центростремительное в нем ценит свой собственный
гармонический покой и далеко не всегда принимает центробежный размах, но если
случится такое – держись!» (И.А. Ильин).
Русскому человеку больше
свойственно гармоничное сочетание мужского и женского, что придает характеру
необычайную цельность: «Русский, чтобы хотеть, должен любить, чтобы верить,
должен созерцать, чтобы бороться, должен любить и созерцать. Но в борьбу с ним
лучше не вступать» (И.А. Ильин). Несмотря на богатство женской природы, «русский
мужик не женственен; он мужественен и живет по всем нормам мужского естества…
Но все жизненно-мужские проявления проистекают из недр сердечного созерцания,
согреты лучами вечно-женственного; умерены ими, смягчены, облагорожены;
вечно-женственные жизненные содержания цветут и светятся; вечно искомая мужская
форма найдена, получила своё наполнение, достигла своего предназначения»
(И.А. Ильин). Русская женщина наделена богатой и трепетной женской природой. «С
незапамятных времён русскую женщину изображают как существо чувствительное,
сострадательное, сердечное, целомудренное, робкое, с глубокими религиозными
убеждениями, упорным терпением и в известной мере подчиненной мужчине. Она
любит, она служит, она страдает, она уступает» (И.А. Ильин). Жестокая
судьба требовала от русской женщины проявлений и мужеской природы: «Судьба
от нежного, как цветок, женского существа требует по-новому приспосабливаться к
жизни, преобразовываться, требует мужской формы, воли, твердости характера,
интенсивности. В дальнейшем все эти качества характера наследуются, постепенно
совершенствуются, закрепляются и – проявляются. Буквально во всех сферах» (И.А.
Ильин). Русская жизнь и русская литература преисполнены образами волевых,
решительных, деятельных женщин, «впитавших в себя вечно-мужественное, чтобы
излучать его в более активной и творческой форме». Вместе с тем «русская
женщина умеет подать и реализовать свой ставший мужественным характер в форме
вечно-женственного. Она пребывает цветком, она остается центростремительной,
чувствительной и нежной; порой столь трогательно-нежной, что диву даешься,
откуда в таком хрупком теле такая душевно-духовная мощь. Она скромна,
естественна, дружелюбна, честна, легко возбудима, порою вспыльчива как порох,
но никогда не впадает в состояние аффекта» (И.А. Ильин).
Внешние трагедии и внутренние драмы
не могли не искажать душевный облик русского человека, в том числе и в области
соотношения мужского и женского. Бунты и социальные смуты происходили в России
из-за распада органичного соотношения этих начал в национальной душе. В такие
периоды национальное «Я» – центр самоидентификации народа – лишалось зиждительной
кристаллизации и безвольно впадало то в тотально мужественные состояния –
разнузданно разрушающие, то в беспросветно женственные – пассивно отдающиеся
агрессивным посягательствам извне. Эти начала восставали друг на друга и в
слепом самоистреблении сталкивали различные слои, классы и группы народа.
Гражданская война зачинается в национальной душе и затем разливается по
просторам страны. Стихия маниакальной тирании Ивана Грозного – это болезненное
проявление беспредельного самолюбия мужской природы, истребляющей не только
своих жен, но и насилующей женственную природу народа. Опричники ограждались в
«ордене-монастыре» от благотворного воздействия женственности. Раскол
андрогинной природы национальной души привел, с одной стороны, к разнузданию
зарвавшейся мужской стихии в опричнине, с другой – к женственному безволию
правящего клана Шуйских. Роковое раскачивание разрушительного маятника в
национальной душе не остановило мудрое правление Бориса Годунова. В Смуте XVII
века можно увидеть разнузданную мужскую стихию казачества, разбойников и
грабителей в своей стране, и женственную безвольность в противостоянии
иноземцам. Мужская природа в народе деградировала в ту эпоху, не была способна
к самозащите, а женская природа пала, для обретения какого-то порядка готова
была отдаваться владычеству иноземной мужественности в лице самозваных
«принцев». Только нижегородское ополчение явило примирение женственной жертвенности
и мужской мудрости, воли, с чего начинается оздоровление национального тела –
государства. Тирания Петра I выразила уродливую гипертрофию мужского начала,
насилующего женскую природу нации и ревниво истребляющего рядом с собой
проявления здоровой мужской природы. Пример тому – убийство Петром I своего
сына царевича Алексея. В последующую эпоху маятник качнулся в другую крайность,
XVIII век оказался «бабьим веком», когда в хорошем и в плохом, в созидании и в
разрушении первые роли играли женщины на троне. Мужчинам отводилась роль
фаворитов или слуг венценосных дам.
В революциях 1917 года февралисты
проявили аморфность, сменяющуюся истерической импульсивностью женственности
характера, безответственные судороги которого ввергли страну в хаос. В ответ
явился уродливо гипертрофированный мужской характер большевизма, с невиданно
железной, безжалостной, тотально маниакальной волей. Выход из Новой Смуты
возможен через кристаллизацию и гармоничное воссоединение мужской и женской
природы в национальной душе. Можно констатировать, что «проблема русского
характера оставалась пока нерешенной: ему недоставало формы, активности,
дисциплины. Вечно-женственное одаривало нас своими дарами; вечно-мужественному
приходилось наверстывать: слабым оставался характер, слабой – организация,
слабым – государство. И революция начала с превращения упадка в хаос, чтобы
затем отдать бразды правления сверхмужескому волевому клубку безрелигиозного
тоталитаризма. Моим твердым убеждением всегда было то, что есть только один
верный способ санации существующего – изнутри, через вечно-женственное, через
любовь, верность, терпение, молитву и чистоту помыслов… Революцию в России со
всей её чудовищностью, разнузданностью и низменностью одолеет и санирует
русская женщина. Ведь революция в России произошла потому, что сверхмужеская
доктрина свернулась в сверхмужеской Европе в яростный волевой клубок и избрала
Россию – растерянную с парализованной вследствие войны волей – в качестве
полигона для своих экспериментов» (И.А. Ильин). Женственная расслабленность
в национальном характере была усилена до войны творческой элитой – в
разлагающем мужественность культе декаданса.
Подлинное и всецелое национальное
возрождение возможно через восстановление хрупкой андрогинной гармонии в
народной душе. На пути к этому мы предшествующей историей приговорены к новым
судорогам. Рецидивом патологических проявлений мужского начала был феномен
Ельцина, который сыграл роль бульдозера-рушителя прежнего режима – вместе со
страной. С другой стороны, истерическую, не способную к рефлексии и
самоконтролю женственность проявляла творческая интеллигенция, с энтузиазмом
отдающаяся волевому напору безальтернативного президента.
Эта сторона жизни в народной душе
преисполнена драматизма и противоречий, что неизбежно при взаимоотношении ярко
выраженных противоположных начал.
Оригинал этого материала
опубликован на ленте АПН.