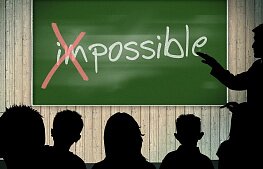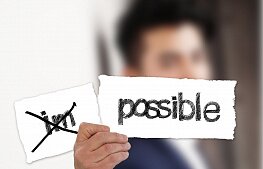

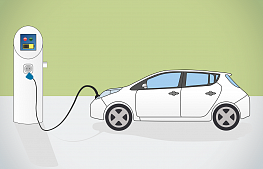

Национализм с повадками джентльмена
Рецензия на журнал "Вопросы
национализма" (№1, 2010).
У национализма в России достаточно
негативный имидж, следствием чего является в целом подозрительное отношение
общества к тем, кто позиционирует себя в качестве националиста. Это наследие
советского времени, когда национализм отождествлялся с чем-то темным и
неприятным, с чем-то, что препятствовало «построению коммунизма». Впрочем, с
крушением СССР ситуация в этой сфере не особо изменилась. Единственное, что
национализм из вопроса взаимоотношения наций превратился, наряду с футболом и
политикой, в тему, в которой экспертом считает себя практически каждый
россиянин. Следствием этого является полнейшая профанация самого дискурса о
национализме.
Однако это не испугало издателей и
редакторов нового журнала «Вопросы национализма». Первый номер журнала дает
надежду, что если будет продолжена наметившаяся тенденция, то проблема
превращения национализма в респектабельное понятие окажется хоть в чем-то
решена. Среди статей, которые были собраны под обложкой «Вопросов
национализма», можно обнаружить и историческую статью научного редактора
журнала Сергея Сергеева «Дворянство как идеолог и могильщик русского
нациостроительства», и актуально-политическую статью главы Института
национальной стратегии, блестящего российского политического философа Михаила
Ремизова «Нация: конструкт или реальность?». Тут и текст отечественного
политолога Павла Святенкова «К вопросу о нации». Даже можно прочитать интервью
одного из «могикан» русского национального движения – Игоря Шафаревича. Этими
именами отнюдь не исчерпывается содержание первого номера журнала. Но эти имена
интересны тем, что, как кажется, именно они представляют собой методологическую
основу не только данного номера, но и позицию редакции.
Наиболее интересен с точки зрения
эпистемологических оснований современных русских националистов материал Михаила
Ремизова, который старается примирить две парадигмы в исследовании феномена
национализма – примордиализм и конструктивизм. С точки зрения политического
философа, изучение таких сложных и многоплановых феноменов возможно лишь тогда,
когда не просто существует национальное сознание, которое и должен изучать
ученый, но когда ученый сам ангажирован этим сознанием, когда он может постичь
ценности, лежащие в основе нации, изнутри самой нации. В этом смысле, познавая
национальные ценности, которые существовали вне и помимо этого ученого, то есть
существовали примордиально, ученый сам творит ту социальную реальность, в
которой живет. В том числе трансформирует и те национальные ценности, на
которые был направлен его пытливый взгляд. Таким образом, изначально
примордиальное национальное сознание становится искусственным конструктом,
который в своем ядре сохраняет черты изначальности. Делая такой ловкий ход,
Михаил Ремизов соединяет популярный на Западе конструктивизм с примордиализмом,
сохраняющим свои позиции в России.
По иному пути идет Павел Святенков,
утверждающий, что в основе нации лежит стремление сообщества к свободе, которое
в современном мире достигается исключительно в результате вынесения
эксплуатации вовне. Иными словами, европейские нации стали возможны только
тогда, когда промышленный капитализм позволил европейцам превратить весь
основной мир в свои колонии. Впрочем, Святенков не вполне последователен. Так
он приводит в качестве примера древней нации – спартанцев, которые, превратив
соседей в илотов, смогли сделать себя свободными, а следовательно, стать
нацией. Однако возникает вопрос, почему спартанцев можно считать нацией, а
жители Древнего Урука или египтяне, проживавшие в номе Фивы, таковыми не
являются. В конце концов, наиболее древний символ, обозначающий понятие
«свобода», принадлежит именно шумерам, а отнюдь не грекам.
Завершается журнал рецензией на
творчество именитого колумниста-националиста начала XX века Михаила Меньшикова,
которая как будто бы приурочена к 150-летию со дня рождения этого радетеля за
русский народ. Не совсем понятно, чем был обусловлен выбор именно этой
персоналии. Ведь, если редакция «Вопросов национализма» стремится к
респектабельности, едва ли пристало чествовать человека, известного своим
радикализмом. Скорее, следовало бы обратить внимание на человека, сделавшего
национализм предметом философского дискурса, – Владимира Соловьева. Тем более
что в 2010 году исполняется сто десять лет со дня его смерти.
Оригинал этого материала
опубликован в Русском журнале.