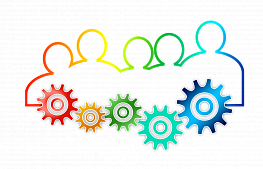Новая политика для региональной державы
По материалам круглого стола
ИНС «Россия после признания: конец эпохи Ельцина-Путина», 18.09.08
Августовская война чем-то похожа на революцию. Не случайно у многих возникло
ощущение, что сегодня Россией правят другие люди.
Но дело не только в персоналиях. Революция несет системные сдвиги. И если
формулировать в самом общем виде итог российско-грузинской войны и всего, что
за ней последовало, то он, как мне кажется, таков: сорван инерционный
сценарий развития страны.
Соответственно, отношение к произошедшему со стороны различных фракций
российского политического и интеллектуального класса, во многом связано с тем,
каково было их отношение к инерционному сценарию. Те, кто относился к
нему положительно (или точнее – те, кто был его неотъемлемой частью),
восприняли август-2008 как досадную помеху своим жизненным планам (например,
планам по обсуждению беззубо-оптимистической программы 2020, которая должна
была стать любимой игрушкой российского истеблишмента на ближайшие годы). Те,
кто видел в инерционном сценарии траекторию регресса, напротив, готовы с
энтузиазмом ухватиться за шанс переломить ситуацию.
Получилось, что у Кремля изменилась база поддержки. Вчерашние энтузиасты
бесполезны в новой реальности. Опереться же можно только на вчерашних
скептиков.
I
Не преувеличиваю ли я, говоря о новой реальности, в которой неожиданно для
себя оказался Кремль?
Быть может, преувеличиваю. Но у меня есть для этого разумные основания. Они
касаются одного из важнейших, системообразующих факторов российской политики –
отношений с Западным миром.
Как изменились эти отношения? Прежде всего, надо отмести все слишком простые
объяснения того, почему нам с Западом уже не жить по-прежнему.
Наивно думать, что отныне российский элитарий не сможет обеспечить
безопасность своих активов за рубежом и будет лишен возможности наслаждаться
красотами Средиземноморья. Личные средства, размещенные на Западе, как были,
так и останутся в зоне умеренного риска. Стерилизованный капитал суверенных
фондов, как был, так и останется желанным гостем. А стратегические инвестиции
как были, так и останутся под большим подозрением.
Не стоит ожидать также, что мы будем жить в состоянии постоянной
конфронтации с Западом. Разрядка неизбежна и даже необходима (разумеется, не за
счет принципиальных уступок – в серьезных вопросах у нас нет резерва для
отступления, как я уже имел случай писать).
Дело вообще не в «хороших» и не в «плохих» отношениях с Западом. Дело в
демаркации, стратегическом размежевании с ним.
Первая разделительная линия была проложена войной, вторая – последовавшим за
ней событием признания.
Война проложила между Кремлем и Западом цивилизационный рубеж. Как
справедливо отметил Борис Межуев, цивилизационный выбор – это отнюдь не выбор
культурной системы (культуру не выбирают, а наследуют), а выбор системы оценок.
Что значит стать цивилизационно своим для Запада? Это значит
безоговорочно принять предвзятость, выраженную в его ценностном языке,
принять его систему двойных стандартов. Но благодаря кричащему расхождению
в трактовке событий и фигур пятидневной войны, сделать это стало решительно
невозможно не только для нашего общества, но и для власти. Благодаря этому
расхождению в нашей сегодняшней политической культуре публичная лояльность
России и публичная лояльность Западу оказались несовместимы.
Что же касается второго события, события признания Абхазии и Южной Осетии,
то оно обозначило новый уровень субъектности России. И соответственно –
принципиально новый уровень ответственности Кремля в мировой игре.
Прежде всего, давайте посмотрим, в чем вызов этого события для Западного
мира и насколько он серьезен с точки зрения Запада.
Наши оппоненты говорят, что Москва попрала международное право. Более
взвешенные комментаторы подчеркивают, что она сделала это вслед за Вашингтоном
и теми государствами ЕС, которые признали независимость Косово. На самом деле,
все это не совсем точно.
Москва попрала не международное право, а монополию Запада на интерпретацию
международного права. А Запад этой монополией очень дорожил. И самое главное,
она действовала на практике.
Ситуация, при которой Москва и другие критики того же косовского решения,
возмущались его неправосудностью, Запад вполне устраивала. Это как апелляция к
судье на неправосудный приговор. Приговор оспаривается, но компетенция – нет.
Несмотря на критику косовского решения, а отчасти благодаря ей само это
решение обладало исключительностью и специфической легитимностью. До 26 августа
в мире действовало негласное правило, согласно которому окончательной
инстанцией признания и непризнания, инстанцией, которая узаконивает или
отказывается узаконить фактические изменения в статусе государств, может быть
только Вашингтон – желательно, в согласии с Брюсселем (но, в крайнем случае, и
без согласия с оным). После 26 августа это уже не так. Монополия на
интерпретацию международного права (то есть, по сути, монополия на полноценный
суверенитет) больше не действует. Отныне эта интерпретация является
плюралистической, что представляет собой кардинальное изменение международного
порядка.
Вполне естественно поэтому, что Запад рассматривает произошедшее не в
категориях геостратегических потерь и приобретений – на этой почве вполне можно
договориться, — а в категориях собственного статуса в мире и собственных
представлений о миропорядке.
То есть, вызов, заключенный в решении 26 августа, для него предельно
серьезен. И так же необратим, как для нас необратимо само это решение.
Наши партнеры будут действовать в логике ответа на этот вызов, вне зависимости
от того, как далеко зайдет риторическая и прагматическая разрядка в
российско-европейских и российско-американских отношениях.
Здесь я уже перехожу к вопросу о той новой, небывалой ответственности,
которую Кремль взял на себя этим решением.
Российская правящая группа не является новичком в мировой политике. Но если
раньше она участвовала в борьбе за условия собственной интеграции в глобальную
элиту, то теперь на повестке другая борьба: за интеграцию вокруг себя нового
полюса силы.
У этой игры другие правила, другие риски. Да, эта игра оказалась для Кремля
вынужденной. Но из нее уже нельзя выйти. Любое поражение в ней будет более
жестоким. И возможно, окончательным. А любой успех будет промежуточным и более
трудным, чем раньше.
II
Вообще, то ощущение конца эпохи, которое разлито в воздухе, связано с тем,
что кончилось время легкого успеха. Или, точнее сказать, дешевого, дутого
успеха, который был квинтэссенцией путинской стабильности.
Падение пирамиды фондового рынка в этом отношении красноречиво. Мы не знаем,
насколько далеко зайдет финансовый кризис, но не без оснований можем
предположить, что уже исчерпана прежняя модель экономического роста. И если не
будут заложены фундаментальные основания для экономического и, прежде всего,
промышленного развития, то мы не сможем наслаждаться даже иллюзией успеха и
благополучия.
Аналогичным образом обстоит дело и в идеологической сфере. Августовские
события также вызвали в ней своего рода очистительный кризис. И создали вакуум,
который пока не заполнен.
Рухнули базовые идеологические конструкции официальной постсоветской России.
Перечислим их в порядке значимости.
Во-первых, это то, что можно с некоторой долей условности назвать «питерским
проектом»: идея о том, что Россия в качестве великой державы может стать или
уже является интегральной частью Западного мира. Всегда было заметно, что и
Путин, и Медведев очень дорожат этой идеей, — и в этом отношении наследуют духу
петербургского периода нашей истории. Но теперь, хочется нам того или нет,
между державностью и принадлежностью Западному миру придется выбирать.
Несколько лет назад проницательный британский эксперт Бобо Ло писал, что Россия
может быть либо великой державой, либо частью Большой Европы, но не тем и
другим одновременно. Причем европейцы готовы принять любой вариант российского
самоопределения, но ни в коем случае не допустят совмещения этих вариантов.
Сегодня, на мой взгляд, это уже не мнение отдельного эксперта, а объективная
историческая реальность. Питерский проект закрыт.
Во-вторых, рухнул российский легитимизм в международно-правовых отношениях,
представлявший собой не столько приверженность праву, сколько приверженность
статус-кво. «Международное право» в риторике Москвы за последние годы
превратилось в синоним консервации. Консервации жалких остатков ялтинской
мировой архитектуры. Разумеется, МИД волен использовать эту риторику и после 26
августа, но в окружающем мире это будет восприниматься с нескрываемой иронией.
Чтобы обрести новый язык и новую убедительность в мировом диалоге, нам следует
овладеть международным правом как инструментом не только консервации, но и
ревизии международных отношений, каковым оно, несомненно, является.
В-третьих, оказалась преодолена собственно постсоветская идентичность
России. Она выражалась в концепции «беловежского национализма», согласно
которой Россия – это новое государство, отделившееся от СССР и существующее на
основе признания незыблемости постимперских границ. В рамках этой концепции
наша страна была способна бороться за жизнь (как это происходило в Чечне), но
место России в мире, как мы и ожидали, оказалось слишком большим, чтобы она
могла занимать его по праву «бывшей республики» СССР. Эта «беловежская»
идентичность «новой России» была одиозной для массового сознания, но
системообразующей для государственных институтов. В конце концов, сам
формальный учредитель РФ – ее «многонациональный народ» — является проекцией
административных границ РСФСР, и ничем больше.
В этом смысле, решение 26 августа ставит под вопрос не только прежнюю
международную риторику России, но и определенные элементы ее
внутригосударственной идентичности. Элементы, на мой взгляд, совершенно не
жизнеспособные. Но все дело в том, что пока они ничем не заменены.
III
С этим связана серьезная опасность. Опасность того, что в образовавшемся
вакууме российской стратегии начнет действовать рефлексология холодной войны.
Я согласен с теми, кто говорит, что, начав доигрывать глобальную партию СССР
на ухудшенных условиях, мы не только окажем лишнюю услугу нашим стратегическим
оппонентам, — для которых «победа в холодной войне» уже стала слишком тяжелой
ношей, — но, в конечном счете, обречем себя на жестокий и унизительный откат в
пораженчество.
Для того чтобы этого не произошло, нам необходимо выработать внеимперский
язык наших национальных интересов и уже сегодня сформулировать те принципы
российской стратегии, которые отличают ее от стратегии биполярности времен
СССР.
И прежде всего, как мне кажется, необходимо принять два постулата о нашей
будущей стратегии.
Первый состоит в том, что Россия не мировая, а региональная великая держава.
(Подробнее об этом см. здесь) Она не оспаривает глобальное лидерство США (хотя
бы потому, что сегодня в мире не существует страны, обладающей сопоставимой
инфраструктурой мягкой и жесткой власти), — но бескомпромиссно отстаивает
свой суверенитет и претендует на исключительное влияние по периметру своих
границ, в зоне своих жизненных интересов.
Соответственно, та коалиционная политика, которую проводит Россия, должна
выглядеть не как антиамериканский интернационал, а как система сотрудничества и
взаимного признания между государствами «второго мира», крупными региональными
игроками, проводящими активную модернизацию и дорожащими своей независимостью.
Второй постулат касается нашей внутренней структуры и модели реинтеграции
постсоветского пространства. На мой взгляд, этой моделью, матрицей для новой
сборки является не многонациональная империя, а союз национальных государств.
Одним из которых является Россия. (1)
Не состоявшись как национальное государство, мы не создадим новый центр
притяжения на нашем историческом пространстве. Поэтому те, кто после успеха
пятидневной войны, поспешил сделать вывод, что этап, когда Россия
сосредотачивалась, ушел в прошлое и на повестку дня встал вопрос новой
экспансии, глубоко неправы. Наше сосредоточение только начинается.
Примечания
1. Важно отметить, что пятидневная война и последовавшее за ней признание
обеих республик полностью укладываются в логику этих двух принципов. Эти
события обозначили однозначный приоритет для России внутренней геополитики
над мировой (не случайно одностороннее признание Абхазии и Южной
Осетии вызвало настороженность у наиболее проницательных сторонников
стратегии России как мировой державы). И главным смыслом этих событий была,
конечно же, не территориальная экспансия (классическая имперская парадигма) и
не гуманитарная интервенция (неоимперская парадигма), а защита государством
жизни и достоинства своих граждан и ответ на агрессию против своих
военнослужащих (национальная парадигма).
Оригинал этого материала
опубликован на ленте АПН.