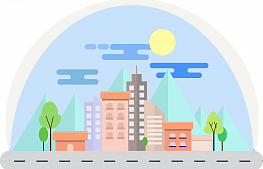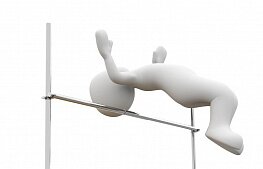Преимущества федерализма
В 90-е годы, когда в стране
осуществлялся федералистский проект, и более или менее удачно строился
федерализм, регионы, особенно наиболее сильные, обеспеченные и при этом
амбициозные, очень активно развивали международные связи – политические,
экономические, гуманитарные. Потом, начиная с конца 90-х, по мере укрепления
федеральной бюрократии эта практика слала сводиться на нет. Отчасти, конечно,
деятельность регионов нуждалась в координации и синхронизации, но в целом это
был шаг по пути дефедерализации.
Практика федеративных государств
вполне допускает развитие международных связей регионов, субъектов федерации. Например,
в Германии Бавария всегда настаивала на своих особых правах субъекта федерации.
В частности, в ней существует министерство иностранных дел, которое ведет
достаточно активную международную деятельность. Разумеется, она координируется
с общефедеральной линией, причем, есть достаточно строгие договоренности на
этот счет. Но все, что относится к компетенции региона, может выражаться в
активности на международном уровне.
Разумеется, регионы сотрудничают в
основном с регионами же. Поэтому неслучайно, что сотрудничество наиболее
успешно развивается между федеративными государствами. Потому что и там, и там
регионы с точки зрения права, с точки зрения политики – это примерно
равноценные образования, им проще устанавливать связи.
У Нижегородской области есть
побратим – земля Северный Рейн – Вестфалия, это одна из самых богатых и
экономически развитых субъектов федерации. В свое время активно велись переговоры
с регионом Ломбардия в Италии, но таких глубоких и всесторонних отношений как с
землей Северный Рейн – Вестфалия не сложилась. В том числе и потому, что
существует правовая и структурная асимметрия – Италия не федерация, и провинции
не являются субъектами федерации. Поэтому их компетенции и прерогативы –
другие.
А с Северным Рейном – Вестфалия
отношения развивались очень успешно, в Германии было открыто бюро, и там
работал представитель Нижегородской области, Петр Юрьевич Мухин.
Татарстан пошел даже дальше, открыв
в четырех странах свои представительства, такие «чуть-чуть посольства». Но
потом эту деятельность стали сворачивать, поскольку это очень дорого – даже для
Татарстана. Плюс к тому министерство иностранных дел РФ сильно поддавливало, и
они добились того, что возможности регионов по международному сотрудничеству
были сильно урезаны — все должно проходить через согласования, долгие
рассмотрения и так далее. Поэтому международная деятельность субъектов
федерации стала как-то съеживаться.
Международная активность регионов
была заметно свернута, чтобы не сказать сведена на нет (кое-какие гуманитарные
аспекты остались вроде Всемирного татарского конгресса и подобных структур,
инициатив, которые осуществляются за счет региона, но имеют какое-то
международное звучание).
Если действительно начнется
возрождение международной субъектности регионов, а это все-таки удел небольшого
числа сильных регионов, потому что содержание представительств — дорогое
удовольствие, то я в целом считаю это положительным явлением, но в каждом
отдельном случае надо серьезно рассматривать все «за» и «против», поскольку
наладить достаточно эффективную работу этих представительств в общем не просто.
Должно быть серьезное кадровое и ресурсное обеспечение такой деятельности. Это
работа, которая требует достаточно высокого уровня компетентности, знания
реалий других стран, мировых рынков. Если это будет системный подход, то от
этого можно получить достаточно большие дивиденды.
Нужно хорошенько посмотреть не
только на положительный, но и на отрицательный опыт, который существует.
Например, почему не состоялось представительство в Германии, предпосылки для
которого, вроде бы, были хорошие – и германские партнеры всегда были
расположены к сотрудничеству, но тем не менее в свое время работа была
свернута. Нужно посмотреть и на опыт других регионов – что получилось, что нет.
Это имело бы смысл.
Понятно, что есть пограничные
регионы, которые имеют большие возможности для такого сотрудничества, но
у нас есть своя специфика, и если эта деятельность возрождается, то и
Нижегородской области не нужно отставать. Мы были в числе лидеров в 90-е годы,
и сейчас нам не нужно отставать. Я помню, что в 98-м году я был включен в состав
делегации Нижегородской области как независимый ученый, эксперт. Мы ездили в
Северный Рейн – Вестфалию, разрабатывали со своими коллегами какие-то
социальные, гуманитарные проекты. Это было очень полезно. Я думаю, что к этому
нужно вернуться. Сейчас есть нехорошие тенденции к изоляции России (идет она
изнутри или извне – другой вопрос), с имиджем страны в мире есть проблемы. И
межрегиональные контакты способны очень многое поправить.
Опасность, что система
представительств будет использоваться для трудоустройства чиновников, которым
надоело работать в Нижегородской области, конечно, существует, но она
существует с любым международным ведомством, с любым международным проектом.
Поэтому нужно смотреть на качество менеджмента этого проекта и смотреть на уровень
кадров. Не секрет, что такая практика существует на уровне центральных
правительств, когда структура посольств, представительств используется для
того, чтобы дать возможность каким-то заслуженным людям, ветеранам,
невостребованным в кадровом обороте, не уходя с государственной службы, какое-то
время спокойно пожить в странах с приятным климатом, не слишком обременяя себя
напряженной работой.
Однако даже у самых регионов вряд
ли найдутся деньги на устройство таких синекур. Наверное, было бы правильно, чтобы
деятельность представительств контролировалась Законодательным собранием,
другими представительными органами власти.