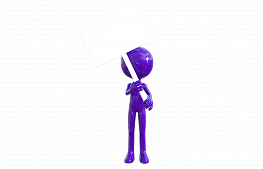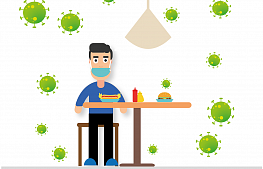Протесты и города
В обсуждениях связи городов и протестов можно выделить
две модели понимания города: города как полиса, организованного вокруг
общественного центра (агоры), и странного современного метрополиса.
Вторая модель только еще вызревает, проявляясь в
переосмыслении понятия города (иные предпочитают ему, к примеру, «урбанность»). Дело в том, что о многих частях современного
города невозможно сказать, частные они или общественные, государственные или
гражданские, центральные или периферийные.
Однако у нас превалирует первая модель, в том числе в
рассуждениях о символизме митингов: «Мэрия ни в какую не разрешает провести
митинг в центре города, а москвичи остро чувствуют центральность события и явно
не хотят снова, в третий раз идти на Болотную» («О
тревожном»).
В процитированном посте далее перечисляются подходящие
для митинга центральные места, включая Площадь революции, рождая вопросы о том,
что сегодня является критерием центральности: историческая значимость, престиж,
близость к Кремлю, стоимость квадратного метра? Выражаясь в стиле Светы из
Иваново, не совсем понятно, что именно скажет горожанам тот факт, что один
митинг осуществлен в «более центральном» месте, чем другой? Центральность,
по-моему, вредная для политического воображения категория: ну как ты, толкуя о
ней, разделишь то, что давно узурпурпировано властями
и риэлтерами, от того, что дорого в ней проснувшемуся
в тебе гражданину?
В сверхцентрализованном
государстве это — особенно вредная категория: уж слишком тесны вызываемые ею
ассоциации с «верхом», контролем, со «всем известно, что земля начинается с
Кремля». Анри Лефевр, отчеканивший необходимость
«права на город» в 1960-е, между прочим, затруднялся с демонстрацией
современных примеров центральности публичных мест и ссылался в одноименной
работе на коммунаров, стремившихся завоевать центр Парижа. Уже в 1960-е
парижские и иные волнения показали, что вряд ли есть смысл думать в терминах
абсолютного географического центра ограниченного городского пространства.
Кстати, ближе всего к так понимаемому способу активной
реализации «права на город» подошел Алексей Навальный с его известным
утверждением «Мы можем захватить Кремль прямо сейчас!». «Мирные люди», как он
определил своих слушателей, резонно не отнеслись к этому всерьез.
О значимости и реальности второй модели
(модели, серьезно работающей со сложностям проведения в современном городе
традиционных различий) думаешь, прижатая толпой к ледяному барьеру ограждения
на Болотной, слушая препирательства с полицейскими репортеров и просто граждан,
желающих выйти за пределы огражденной территории митинга. Где именно
здесь кончается публичная территория и начинается территория государственная? А
как быть с теми ситуациями, когда государственные интересы в городе защищаются
частными охранными агентствами? Общественности лишь остается комментировать
происходящее в Сети?
С трибуны митинга Людмиле Улицкой видны в толпе будущие
президенты, а ты поневоле слышишь в двадцатый раз полицейское «Нельзя здесь проходить!»,
смотришь в молодое и румяное полицейское лицо и думаешь, сосчитали ли его среди
будущих президентов. О значимости и реальности второй модели говорят и
многочисленные эпизоды разгона полицией протестующих от имени «порабощенных
глобальным капитализмом девяносто девяти процентов», у
собора Святого Павла в Лондоне или в парке Зиготти в
Нью-Йорке. Сегодня политически, а не коммерчески значимые публичные места и
пространства создаются и исчезают, а о создании постоянных
новых или возвращении народу прежних речь, по-моему, не идет нигде. Хорошо,
если власти удается убедить отчитаться за использование имеющихся.
Сформулированные Анри Лефевром
и подхваченные Дэвидом Харви и Доном Митчеллом идеи
«права на город», при всей их утопической привлекательности, должны, по-моему,
у нас рассматриваться с учетом двух вещей. Во-первых, это двусмысленность
российского капитализма, в частности, непроясненность
его морального смысла.
Чем отличаются большие деньги того
кандидата, против которого митинговали на Болотной, от больших денег того, за
которого многие протестно голосовали? Что
добавляет к облику возглавляющих университетские и правительственные иерархии
менеджеров то, что они – успешные предприниматели? Как относиться к тому, что в
Кремлевском Дворце Съездов сменяют друг друга Стас Михайлов и Цирк дю Солей? Сколько участников недавних российских митингов
встали бы под плакат «Оккупируй все. Смерть капитализму»?
Во-вторых, взаимоналожение двух
векторов организации декабрьских и последующих митингов – правительственного и
оппозиционного — выявляют целый узел правовых противоречий, сопряженных с
городскими публичными местами, в свою очередь, тесно переплетенными с
проблемами собственности. Частная и государственная собственность и
собственность общая – их сочетание и взаимоопределение
дискутируется повсеместно в мире, повсюду это очень болезненный вопрос, и мне
кажется, именно поэтому преобладает временное присвоение городских пространств протестующими.
Не будем забывать и о временной, эпизодической значимости
публичного самовыражения (и публичных мест) для большинства из нас, напряженно
работающих в условиях гибкого трудоустройства. Дело не в капитулянстве
и половинчатости, а в том спектре людских установок и понимания легитимности
происходящего, что митинги выявили: от отчаяния одних из-за невозможности
объединиться под общим лозунгом до трепетной приверженности других совсем,
кажется, частным лозунгам, от утверждений, что все должно осуществляться на
правовом поле, до противоположных им анархистских призывов. Спектр вариантов
понимания формальности и неформальности, важности
консенсуса и драгоценности сочетания различий, полутонов и идеологических
баррикад опроверг иеремиады тех социологов, что оценивали российское общество
как зачищенное телевидением до полной социальной однородности. Но он же показал такую динамичность и пестроту позиций, что
очевидна непредсказуемость дальнейшего.
Одно понятно: и в будущем ты пройдешь или будешь стоять
там, о чем договорятся организаторы твоего шествия или митинга с городскими
властями, и это, скорее всего, снова будут шествие или митинг, а не палаточный
лагерь или «отведенный властями» угол парка: они бы уже появились, будь они
хоть кому-то нужны. Публичные места будут создаваться не по излюбленному
советскими градостроителями принципу зонирования (тут матери с детьми гуляют, а
тут, уж ладно, городские сумасшедшие самовыражаются),
а посредством санкционированной апроприации. И полицейские будут неотъемлемой
частью этих мобильных спектаклей, дающих тебе шанс сыграть роль гражданина.
Кстати, не только от властей, но и от нас, митингующих, зависит, расширятся ли
в России ряды Подпольной повстанческой армии бунтарей-клоунов (СIRCA) либо
«армией клоунов» продолжат называть себя креативные «ивент»-менеджеры.
Если мыслить город не только как «недвижимость», если
мыслить городское пространство как создаваемое людьми, то акцент на
динамических социальных отношениях может побудить к перемене оптики.
Болотная, конечно же, была центром, была полисом, была
публичным пространством в силу того, что на ней главное действие и совершалось:
на ней д о б р
о в о л ь н о собрались,
столкнулись разные, неподобранные люди, преодолев разделенность,
сравнив эмоции, выразив надежды.
Если уж продолжать искать суть городского опыта и суть
городской публичности, то они, по-моему, именно в этом – в непредсказуемых
столкновениях чужаков.
Митинги и шествия, при всей простоте их логистики и
традиционности, сделали такие столкновения возможными. Они стали возможностью
обменяться взглядами и фразами, возможностью увидеть друг друга в деле,
возможностью вместе поставить это зрелище, которое эффективнее прочего
приближает нас к демократии.
Город собирает вместе, и эта недавно обретенная
совместность наложит отпечаток на то, что обитающие в нем продолжат делать,
будь это конфликты или сотрудничество.
Оригинал этого материала опубликован в Русском журнале.