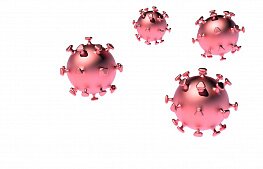Свобода без слова
27 мая писателю Андрею Битову исполняется 70 лет. Как делаются репутации в литературе? Что можно, а чего нельзя делать русскому писателю, чтобы таковым оставаться? С этими вопросами «Огонек» накануне юбилея обратился к Андрею Битову.
Андрей Георгиевич, а что это вообще такое — моральный кодекс русского писателя?
Мораль у литератора, по-моему, должна быть простая — не делать хуже, чем можешь, не понижать планку. Но это плохо совместимо с профессиональным писательством, суть которого в том, чтобы печь произведения по известному уже образцу и этим на жизнь себе зарабатывать. В России, в отличие от Запада, очень долго литературой не зарабатывали. Скажем, пушкинский «Современник» был очень нерасчетливым проектом. Прибылей никаких, концы с концами не сходятся. Долгов столько, что… Друзья советовали ему: «Потрафи читателю, и все получится». «Вот еще, — говорит Пушкин, — буду я его баловать». Высокомерие это? Ну в каком-то смысле, да. Но «высокомерие» происходит от слов «высокая мера», а не только от того, что человек важничает и, взяв трубку в зубы, изображает большого писателя. Эту меру он сам к себе применяет. И к читателю тоже. И тогда может произойти взаимодействие, при котором читатель поднимается на новый уровень вместе с автором, вместе с текстом.
Сейчас с читателем работают по-другому. Выявляют целевую аудиторию, ее запросы… Большой оперативный простор для пиар-менеджера.
Существует огромная возможность манипуляции читателем. Ведь человек больше всего боится показаться глупым, несориентированным, отставшим. И те, кто лучше других умеет раздувать щеки, начинают диктовать свои условия всем остальным. Это и есть пиар. Надежда Яковлевна Мандельштам, с которой мне посчастливилось быть знакомым, пишет, что жульничество началось еще с супрематистов. Они чуть ли не первые предложили игрушки вместо хлеба, вместо искусства. Сейчас это стало правилом. Критериями стали успех, продаваемость. И наступила первая в России эпоха профессиональной литературы. Профессионалов вообще. Никто и ничего не хочет делать за просто так. Не только для других, но и для себя тоже. Так ведут себя и наши дамы-детективщицы, и уважаемый мной Акунин.
Но достойная ли это позиция для русского литератора?
Это позиция профессионала, а русский литератор — непрофессионал по определению. Он разгильдяй и мечтатель. Вспомним девятнадцатый век, золотой век русской литературы. Тогдашние писатели не повторили себя ни в чем. Может, потому и прожили так мало, что отказались воспроизводить себя для утех тогдашней целевой аудитории. Они давали образцы, но не продукцию. Это и есть кодекс чести русского литератора. Но даже и в двадцатом веке, несмотря на советскую власть, русская литература была литературой развития, а не заработка. Делом чести, а не профессиональной обязанностью. Хотя почему несмотря? Именно советская власть сыграла положительную роль в этом вопросе. И Чехов, и Бунин, и Горький вполне могли уже жить на гонорары и считаться профессионалами. Советская власть эту тенденцию прервала и вновь повернула литературу в идеалистическое русло, отдалив профессиональную эру на семьдесят лет.
Власть вообще много делала для писательских репутаций…
Так уж сложилось, что власть была необходимым условием существования литературы. Попробуйте прочесть Булгакова, забыв о существовании Сталина. Невозможно! То же и с Ахматовой, и с Пастернаком, и с Зощенко… Без Сталина не понять их судьбы, а значит, и книг тоже. Судьба и текст в России дополняют, дописывают друг друга. Может быть, где-то это иначе, а в России именно так. Пришлось мне недавно перечитать платоновскую статью «Пушкин — наш современник». Там есть очень глубокая мысль о «Медном всаднике». Платонов пишет, что Пушкин выравнял трагедию Евгения и Петра. И что только равновеликость порождает трагедию. Тогда-то я и понял, что судьба Платонова была предопределена сталинской надписью на полях его статьи. Сталин написал: «Сволочь!» Он спровоцировал Платонова на равновеликость. Не Платонов тянулся к уровню Сталина, а Сталин возревновал писателя!
Но это ведь все равно что общаться с нечистой силой. Вот, скажем, как вы считаете: Бабель запятнал себя дружбой с чекистами?
Тогда на чекистов был иной взгляд, чем сейчас. Более романтический. Бабель, конечно, романтизировал власть. К тому же он был очень любопытен, жаден до жизни. А любопытство художника — вещь циничная, аморальная… Но судить никого нельзя. Особенно жертв. Нельзя заниматься либеральным террором, это еще более аморально. Меня когда-то научил этому Камил Икрамов. Мы с ним много общались в середине 1960-х. Он отсидел много лет в лагерях за папу, который был секретарем ЦК Узбекистана. А Камил принадлежал к шестидесятникам, к либеральной среде. И был по-настоящему репрессированный человек. Но именно от него я услышал фразу, которая тогда сильно меня зацепила: «Тот, кто в чем-либо обвиняет человека, бывшего под пытками, оправдывает применение пыток». Нельзя судить жертв. Ни под каким предлогом.
А между тем судят. И Мандельштама за оду Сталину. И даже Пушкина за стансы царю…
Логичнее было бы попрекать за «Памятник», где он, на мой взгляд, действительно писал с оглядкой. Вычеркнул, например, строчку «Изгнанья не страшась…». А ведь это была его мечта — оставить службу, удалиться в деревню, а то и вовсе отправиться путешествовать. И фразу «вослед Радищеву» вычеркнул. Хотя, быть может, вычеркнул по поэтическим соображениям. «Памятник», между прочим, многие современники восприняли как жалобу на утрату внимания читателя… И не факт, что они заблуждались. Но в любом случае Пушкин не врал, а это редкость в литературе. Кто еще? Вот Розанов, пожалуй, не врал. Поэтому он такой противоречивый. Мне кажется, Лимонов не врет в том, что пишет. А по жизни как угодно его судите.
А как вы это определяете? Где критерий честности?
Если человек имеет хоть какую-то нелитературную цель, когда пишет: прославиться, заработать, сделать карьеру, отомстить кому-то — сразу эта ложь вылезает. И сразу человек утрачивает дар. Как Ахматова, когда писала стихи ради спасения сына. Хотя не нам ее судить, разумеется.
Пушкин, Толстой, Чехов — непререкаемые моральные авторитеты. А сейчас… Нет у вас ощущения нравственной деградации писателей?
При советской власти легко, слишком даже легко было занимать нравственную позицию. Нравственные полюса были очевидны. Нынешние писатели в более трудной ситуации, им чаще приходится выбирать. И если уж они сегодня ведут себя нравственно, это многого стоит.
Входит ли в кодекс чести русского литератора патриотизм, восторженное отношение к своей стране?
Русский писатель пишет по-русски, поэтому он автоматически патриот. Ничего более русского, чем язык, у нас нет. А крики о березах и таинственной русской душе мне подозрительны. Говорят о березах, как правило, люди, которые не очень хорошо знают свое происхождение. В таком котле вариться, как наша империя, и настаивать на чистоте крови… Абсурд. Или признак больших комплексов. В одном эссе мне советская цензура вычеркнула такой пассаж: «Ненавижу русских, евреев, армян…» И длинный список национальностей. Все, кого я смог вспомнить. Такой вот антинационалистический манифест. Тогда это не прошло. Да и сейчас, думаю, вряд ли прошло бы. Воннегут в «Колыбели для кошки» пишет, что есть карас, подлинная общность людей, которые встретились вам в жизни. Друзья, родственники и даже враги. И есть ложные карасы, ложные общности: люди одного года рождения, одной национальности, одной партии…
Известно, что во время Второй мировой Сэлинджер, безусловный моральный авторитет, был контрразведчиком. Можно ли представить себе русского писателя, служившего в контрразведке?
Можно. Вспомните Грибоедова. Чиновник иностранных дел. А Тютчев? А Державин, который подавлял пугачевское восстание? Эти вещи не имеют никакого значения. И вообще, продаться надо еще уметь. Жванецкий говорил, помню: «Ты думаешь, я не пробовал писать для НИХ? Пробовал. Не получается». Трудно судить об этом человеку, которого не покупали. Меня лично ангел хранил даже от мельчайших соблазнов. Всегда находилось какое-нибудь обстоятельство, которое препятствовало. Ну, скажем… Как-то предложили мне вступить в партию. И я тут же попал в вытрезвитель. С 1977 года я стал замечать, что тут не берут у меня тексты, там не берут. Они уже знали, что мой роман на Западе находится. После публикации там «Пушкинского дома» я попал в альманах «Метрополь» и перешел тем самым определенный рубеж. Мы сначала должны были исчерпать официальные возможности публикации и только после этого дать сигнал к изданию альманаха в Штатах. А они поспешили… Запад вообще не очень считался с нашей безопасностью. Там не понимали, в каком мы находимся положении.
Это был эпизод в моей жизни почти фантастический. Я никогда не слушал западных «голосов», чтобы не нервничать. Оказался я в то время без дома, без семьи, без денег. И поселился на даче Маргариты Алигер в Переделкине. Там стояла «Спидола». И я уснул, рука у меня отпала и прикоснулась к антенне. Вспоминая свое инженерное образование, могу сказать, что, по-видимому, образовался контур какой-то… И радио заговорило человеческим языком, голосом издателя Карла Проффера. Он сказал, что альманах вышел. Кстати, идею альманаха «Петрополь» мы разрабатывали еще в шестидесятые годы в Ленинграде. В нем принимали участие Рид Грачев, Генрих Шеф, Борис Вахтин…
Столько было прекрасных писателей. И все канули в Лету. От тогдашней ленинградской прозы остались Довлатов, Битов, Попов…
Я тоже не уверен, что все репутации заняли свое место. Вопреки Булгакову, рукописи горят. Кроме текстов нужна еще и судьба. Вот, скажем, «Виктор Вавич» Бориса Житкова. Если бы у этого романа была судьба, он занял бы нишу между «Тихим Доном» и «Живаго». Теперь он станет, может быть, лишь темой диссертаций. И никогда уже не займет своего места. Самостоятельных текстов нету. Поэтому Солженицына можно понять с его стремлением больше осуществлять судьбу, чем заниматься литературой. Сейчас много хорошо пишущих людей в России. Но судьбы, в высоком понимании слова, у них нет. И по-житейски это хорошо. Не дай бог стране такую историю, чтобы у писателей появилась судьба.
Беседовал Ян Шенкман
Оригинал этого материала опубликован на сайте журнала «Огонек».