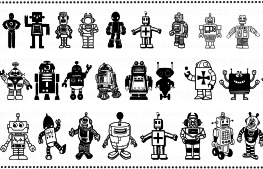Точка невозврата
Принято считать, что революция разрушает любую повседневность: интенсивное
социальное взаимодействие, происходящее в революционные дни, отменяет прежние
готовые решения, отработанные способы действия. Главным признаком революции
всегда становилось стремительное приобщение к активному политическому спектру
новых членов: это могла быть “пролетаризация” наёмных работников или
“студенческая революция”, в которой принимают участие явно не только студенты.
Те, кто ещё за несколько дней до социального взрыва не задумывался, что может
оказаться на баррикадах, вдруг рвался в первые ряды обороны новейших
завоеваний.
Особенность панарабской революции, происходящей на наших глазах —
отсутствие таких разрушений: выступления против власти не подразумевают усиленного
взаимодействия социальных слоёв, и тем более выхода на арену нового класса.
Напротив, пока эта революция расписывает роли внутри вполне консервативной
общественной реальности: известно, представитель какого этноса, какой
социальной группы, какой профессии каким образом выступит во время
революционных действий. Вместо вовлечения всё новых людей в революцию,
происходившему благодаря густому переплетению взаимных социальных обязательств,
перед нами простая “раздача оружия” — с чего всегда начиналась не революция, а
гражданская война.
Восставшие поднимаются на борьбу не против политической элиты, а против
власти как таковой. Если раньше революционеры хорошо знали, на кого опирается
автократическая власть, и перечисляли, в чём виновата полиция, и чем плохо
чиновничество, то теперь выделить профессиональные группы, поддерживавшие
старую власть, оказалось гораздо труднее. Протест, который должен был быть
направлен вширь, угрожать не только лидеру, но и всем его приспешникам, вместо
этого уходит вглубь истории. В местной истории не находится примеров, которые
можно было бы противопоставить позору тирании без того, чтобы какая-то из
влиятельных групп не заявила, что эти примеры из прошлого — примеры такой же
тирании, если не одного, то толпы, иноземцев, аристократии или торговцев.
Именно поэтому выбор целей революционных атак в наши дни меньше всего похож
на захват почты, телеграфа и телефона. В списке захваченных зданий и
контролируемых территорий очень мало тех, которые действительно представляют
собой узлы, обеспечивающие административное или финансовое влияние действующей
власти. И главное, революция перестаёт быть атакой на цели, а превращается в
позиционную войну, едва успев начаться.
Такой новый характер революций был запрограммирован, как ни странно,
событиями совсем в другом регионе — освобождением восточного блока в конце
1980-х гг. Это была первая революция, в которой смена власти происходила без
изменения концепции власти: с выходом стран Восточной Европы из подчинения СССР
просто отменялись обязательства социалистических государств перед советским
государством, и ликвидировались только те институты, которые были носителями
этих обязательств. Система влияния СССР на социалистические страны
представлялась в те времена не как систематическое принуждение к различным
общественно значимым решениям, но как просто набор дополнительных мероприятий,
план которых спущен из Москвы.
Такая концепция революции как отказа от обязательств привела к тому, что в
свободных странах связь с историческим прошлым стала ощущаться как нельзя более
остро: любой пример из прошлого, из времени относительного социального
благополучия, стал восприниматься как руководство к действию. Это был
широчайший диапазон примеров, начиная от структуры министерств и кончая
требованиями к начальному образованию. Но важнее другое: простое перекрытие
каналов советского влияния конструировало мнимую повседневность недавнего
прошлого как повседневность усиленного потребления. Ведь объяснять
несколько десятилетий коммунистической судьбы этих стран конкретными
военно-политическими обстоятельствами послевоенной Европы было и унизительно, и
непродуктивно. Гораздо сподручнее было думать, что эти страны шли по советскому
пути, потому что тоже занимались потреблением: но только это было не
потребление товаров и услуг, а потребление власти, партийной организации,
авторитарных политико-административных возможностей и некоторого избыточного
символического капитала, который неизбежно скапливается при переправе идеологем
и принципов работы из окраинной страны коммунизма в его центр и обратно.
В той памятной революции, также охватившей целый регион, произошла настоящая
гибель повседневности, несмотря на все те новые возможности для разумного и
благополучного обустройства жизни, которые открылись после победы демократических
сил. Повседневность советского времени в социалистических странах была очень
напряжённой в эмоциональном плане: возможность для польского рабочего трудиться
в порту вместе со шведскими партнёрами была не менее важна, чем участие в
оппозиционном движении. В этом главное отличие восточноевропейской
социалистической повседневности от повседневности в СССР, где правила
обыденного поведения были практически полностью подчинены нуждам социальной
стратификации общества. В СССР главными моментами каждодневной жизни
становились карьера или приобретение товара с чёрного хода — то есть
неформальная политика и неформальная экономика. В социалистических странах
повседневность наоборот становилась главным каналом участия в правильной,
формальной политике или экономике. Именно в своей каждодневной трудовой
деятельности, а не в престижном потреблении западной продукции, восточный
европеец мог столкнуться с правилами жизни, которым следует Западная Европа.
Соответственно, после революции былая повседневность перестала существовать:
прежние адепты благополучного труда, позволяющего не чувствовать себя
оторванным от всей Европы, либо окончательно перебрались на Запад, либо стали
строить самую новую историю своих стран. Поиск себе места в объединённой
Европе, равно как и попытка найти себя в новой местной социальной реальности —
это не повседневность, а прямая её противоположность — политическая жизнь.
В панарабской революции также исчезает повседневность, и быт начинает
стремительно превращаться в основной фактор политики, именно поэтому не
происходит его “разрушения”: он просто мгновенно меняет свою природу. Но
важнейшее различие в том, что если восточноевропейские граждане, налаживая
сотрудничество с капиталистическим Западом, были проводниками западных норм социальных
отношений, то египтяне или ливийцы, сотрудничая с внешним миром по мощным
туристическим или нефтяным каналам, как раз напротив, санкционировали
существующие социальные отношения, и действительная или выдуманная пропагандой
международная поддержка только подкрепляла эти отношения. Быт реален только
тогда, когда за ним стоят мелкие, но ощутимые реформы социальных отношений. А
мнимый быт Египта или Ливии, в котором разрыв между устаревшими восточными
обычаями и давлением свободного рынка оказался уже непреодолим, оказалось легко
конвертировать в политическую активность. Стоило только намекнуть, что
мировое сообщество уже не может постоянно оплачивать издержки устаревших форм
социально-политических отношений, как революция стала неизбежной.
Замечательно, что панарабская революция не ставит целью освобождение стран
от внешнего влияния; напротив, речь идёт только об усилении политического веса
прежде отлучённых от политики групп. Как будет развиваться революция — никто
не знает, но “точка невозврата” уже пройдена, и революцию нельзя остановить
“улучшением быта”, нельзя бросить на подавление революции никакие экономические
ресурсы и никакое обещания демократизации. Когда весь прежний строй держался
только на бытовых привычках, а не на компромиссе интересов или постановке
задач, то и внезапно начавшаяся революция отменяет любые прежние бытовые
привычки, оставляя всех наедине с непривычными задачами.
Оригинал этого
материала опубликован в Русском журнале.