




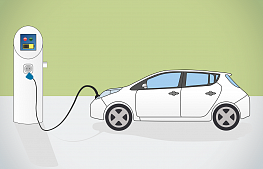

Ворованный воздух, или в чем наш Грех? Олег Рябов, поэт, писатель, издатель
С доисторических времен
семидесятых, когда завлит драмтеатра Анатолий Миронович дал мне прочесть
ксерокопированную сакральную книгу “Египетская марка”, я, задыхаясь от
удивления, научился разделять всю существующую литературу на “разрешенную” и
написанную без разрешения, то есть “ворованный воздух”. Для меня словно день и
ночь на разных полюсах стоят “Поднятая целина” и “Тихий Дон”, “Русский лес” и
“Пирамида”, “История пугачевского бунта” и “Путешествие в Арзерум”, “Последние
дни Турбиных” и “Театральный роман” (не по мастерству, а по происхождению!).
В эпоху нового геополитического
передела сфер влияния великим державам потребовалось создание новых
патриотических идеологем. За последние двадцать лет в США профессия писателя по
оплачиваемости, модности и востребованности поднялась из пятого десятка в
первый. Да и в нашей, только-только осознающей и ощупывающей себя, новой стране
первые местные писательские номера в каждом провинциальном областном центре
загодя готовят по договорам с администрацией очередные опусы, романы, альбомы,
сценарии всенародных фестивалей и праздников местного значения, посвященных
круглым и не очень круглым юбилеям местночтимых великих россиян.
И в этой сумасшедшей гонке за
заказами, желая урвать их все сразу, а заодно еще и премии, звания и награды,
эти, постоянно что-то пишущие авторы, погружаются все глубже и глубже в совсем
не литературную жижу. Справедливости ради, надо сказать, что изредка, почти
всем им удается поднять голову и вздохнуть полной грудью.
И это – ворованный воздух!
***
Шум, возникший вокруг первого
романа Прилепина “Патологии”, настраивал пусть на лояльную, но оппозицию:
слишком спекулятивная тема, даже избитая, чересчур вовремя, даже раньше
времени. И я, учившийся читать в 60-е, когда без эзопова языка не обходился ни
телефонный разговор, ни почтовая открытка, конечно, искал что-то между строк и
находил! Хотя бы это радикальное средство: свалить столб под названием “Чечня”.
Нет столба – нет проблемы! Этот солдатский, а не прилепинский, способ решения
проблемы, может стать прилепинским, если его понять, как призыв к снятию
самоопределений титульных наций в названиях субъектов федерации, а ведь их
десятки.
Весь в красно-коричневых
прохановких отблесках второй роман Прилепина “Санькя”, был как бы сложен из
кубиков тем, навязших на зубах: взрывы, демонстрации, секс, аресты, жизнь в
подвалах и на военных складах и сплошной мат. Но, при всем желании эпатажа,
скандала не получается. Скандал – это уход от нормы и привычки. Поэтому, если в
романе скандалы есть, то это – лиричнейшая
и тончайшая сцена похорон отца: по зимней морозной таежной
труднопроходимой просеке с десяток километров тянутся санки с гробом. Это –
современная Россия.
Самое удивительное во всей этой сцене то, что я эту просеку узнал по
непонятным для меня приметам. Точнее примета тут одна – мастерство писателя.
Бунин как раз этому учил молодого Катаева: описывать не отвлеченного воробья, а
конкретного, на конкретном тротуаре, в конкретное время дня. Вот и Прилепин
описал конкретную просеку, по которой лет пять назад шел я из поселка Керженец
в поселок Пионерский, приехав в те края поохотиться.
При встрече я поделился с
Прилепиным, сказав, что уж очень эта просека со снятой узкоколейкой похожа…
“Да, — ответил Захар, — эта та самая просека, из Керженца в Волки и Пионерское.
Я по ней езжу к друзьям на дачу”.
***
Чувство ответственности – вот как
бы я для себя характеризовал Захара Прилепина, не творчество его, а личность!
Он ответственно говорит: “Здравствуйте.”, ответственно говорит: “Приду!”,
ответственно говорит: “Не знаю.” И эта ответственность откладывает отпечаток на
всю прозу Прилепина, позволяя применить к ней эпитет “мужская” – мужская проза
– это та, которая сродни хэмингуэевской.
Прочитал я новый роман “Грех”
полгода назад, а до сих пор не определил, что меня в нем зацепило: вроде в виде
рассказов и отрывков почти все уже знакомо, видел раньше в периодике, что-то
читал. И почему – “роман”? Первая мысль лукавая: а для того, чтобы подать на
какой-нибудь серьезный конкурс – ведь сборник рассказов не больно подашь!
Однако отбросив фарисейство, вспомним, что если и “Герой нашего времени”, и
“Сандро из Чегема” (список можно продолжить) состоят из отдельных рассказов и
повестей, складывающихся в результате в единое эпическое полотно, то и набор
прилепинских повествований, в которых ключевой фигурой является Захарка, имеет
право на существование как роман. Тем более, что отдельной главой идут
захаркины стихи, как “стихи к роману” в “Докторе Живаго”.
Вот только герой в этом романе уже
не Захарка, а Грех. У каждого из нас он свой, у Захарки – свой.
Весь текст выполнен прекрасным
русским языком XX века,
которым легко владеет Прилепин. Хотя, на мой взгляд, есть принципиальное
отличие “Греха” от первых вещей: в нем герои больше думают и автор делится с
нами их мыслями, а в “Саньке” и “Патологиях” больше говорят. Никаких
констатаций делать из этого факта нельзя.
А вот главный герой раскрылся и
присутствует во всем своем объеме и на грани фола, и уже “за”… Это и глупость
стариков и детей, и литры выпитой водки и пролитой крови, и мат, и сладчайшие
любовные словоизляния и солдатские скабрезности, от которых вянут уши и драки,
и кладбища, и война, и мысль об инцесте уже витала в голове автора.
“Как же это?” – удивляется душа в
последнем абзаце романа, попадая на тот свет и еще не понимая того, но уже
оглядываясь на всю нашу жизнь, на весь наш Грех.
Олег Рябов, поэт, писатель, издатель

















