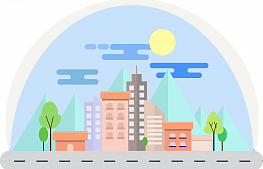Восстановление разорванных утят
Когда я договаривался со Львом Данилкиным об этом интервью, еще не было известно, что у него вышла новая книга ("Круговые объезды по кишкам нищего"), а еще одна — невышедшая, существующая лишь в рукописи ("Человек с яйцом" о Проханове), вошла в шорт-лист самой, наверное, престижной российской премии "Большая книга".
Так что, к этому интервью подоспели сразу два пышных информ-повода.
Я давно хотел пообщаться с Данилкиным, и пару раз пытался его разговорить. Получалось плохо. На фиг это было мне нужно, я не знаю, но сейчас попробую придумать.
Дело в том, что Данилкин не просто критик (и, на мой вкус, великолепного уровня; даром, что за оба мои романа я получил от Льва ощутимые удары под дых). Ведь как бывает — есть некий литератор (писатель, поэт, критик — неважно) — и пишет он вроде бы любопытно, и рассуждает здраво — но загадки в нем самом нет при этом никакой.
То есть, не хочется эту грамотную машину расковырять, и присмотреться, что там внутри, что за потайной механизм, как он тикает, если его вскрыть.
А есть другие, крайне редкие типажи, которые вызывают очевидное и непоправимое любопытство. Не поймешь даже отчего. Может, это называется "харизма", но вряд ли. Однако недавнее интервью Саши Гарроса с тем же Данилкиным утвердило меня в моем отношении ко Льву — потому что и Гаррос его тоже также воспринимает. Как человека потайного.
Вот назвал Данилкин книгу о Проханове "Человек с яйцом" — но мы-то с вами знаем, что все сочинения из серии ЖЗЛ пишутся вроде бы о герое, а втайне — о себе. Хотя бы чуть-чуть — но о себе. Я к тому, что Данилкин — сам человек с яйцом. Отсюда резонное желание, как в сказке про Кощея, яйцо раздобыть, разбить, найти иголку внутри, и что-нибудь с ней сделать такое. То ли сломать, то ли себя уколоть, чтоб проснуться, то ли к патефону приспособить. В общем, неважно — главное найти.
Я попытался. Результаты смотрите ниже.
— С вашего позволения, можно рассказать: кто такой Лев Данилкин, какие-то основные биографические вехи. Где родились, как учились, и прочее?
— Я провел детство в городе Одинцово; сначала мне казалось, что это не самое идеальное место для будущего литературного критика, но чем дальше, тем больше я понимаю, что ошибался. Так или иначе, затем я учился в первой половине 90-х в МГУ, я был лингвист, специализировавшийся по современному русскому языку, не по литературе. После пятого курса послал документы в американский университет, на славистику, поступил, но побоялся упустить кое-кого, не поехал, остался в Москве, затем, закончив фактически аспирантуру, угодил в орбиту того, что сейчас называется журнал "Афиша". Диссертацию не написал, это была ошибка, я недоообщался со своей научной руководительницей, а фамилия моей научной руководительницы Ревзина, и это те самые Ревзины.
Потом… знаете, я могу назвать несколько эпизодов из своей жизни, которые врезались мне в память сильнее, чем прочие: вот мать рвет пачку моих "вкладышей", это такие разноцветные бумажки между фантиком и жевательной резинкой, с утятами, микки-маусами, я слишком азартно в них играл во дворе, вот я в восьмом классе в подъезде закусываю комом снега "Пшеничную", вот раскладываю на Черкизовском рынке пакистанские юбка-брюки на продажу, вот скачу по заданию какой-то глянцевой редакции на гигантской маврикийской черепахе — но не похоже, что из моих биографических вех может сложиться какая-то особенно увлекательная история.
Скажем так: если бы я был литературным персонажем, то, скорее, в романе Маканина или Битова — хотя, разумеется, очень хотел бы попасть в мир Рубанова или — почему нет? — Прилепина. К сожалению, не у всех студентов филфака хватает силы воли — ну или отмороженности — записаться в омоновцы. Однажды я разговаривал с писателем Пепперштейном и, как-то так, к слову пришлось, рассказал ему про свою детскую "травму" — пачку этих уничтоженных вкладышей, которые я собирал год или два и которые мне до сих пор якобы снятся, эти странные существа; он рассеянно заметил, что свою автобиографию я мог бы назвать "Восстановление разорванных утят".
— Книги-награды Льва Данилкина?
— Я перевел книжку английского писателя Джулиана Барнса "Письма из Лондона", которая вот-вот выйдет в одном издательстве. По-моему, это одна из самых остроумных книг на свете.
Моя собственная "Парфянская стрела" входила в лонг-лист "Нацбеста", "Человек с яйцом" — в шорт-лист "Большой книги".
— Будет ли новая "Парфянская стрела" — уже в 2007-ой год? По-моему, та книжка очень бодро продавалась, и я, признаюсь, читал ее с большим удовольствием.
— Уже есть, эта книга называется "Круговые объезды по кишкам нищего".
— Я читал книгу о Проханове ("Человек с яйцом") еще в рукописи, и, признаю, это одно из самых ярких читательских впечатлений прошлого года. Тем более что помимо Данилкина Проханова столь хорошо знают только еще два человека — критик Владимир Бондаренко и я. Сам Проханов хуже помнит свои книги. Тем не менее, что вами руководило, когда вы взялись за эту книжку? Вы реально считаете Проханова большим писаетелем (я-то считаю, но тут не мое интервью)? И почему, за какие тексты?
— У меня не было цели постичь Проханова, я с самого начала знал, что он неисчерпаем, как электрон. Проханов — это ведь тоже… восстановление разорванных утят, если вы понимаете.
Что до размера писательского таланта Александра Андреевича, то каким же фантастическим лицемером надо быть, чтобы всерьез считать его графоманом; вы помните, конечно, первые абзацы "Гексогена", или описание бойни в "Вечном городе", или историю про расстрелянный "не тот табун" лошадей в "600 лет после битвы"; я не верю, чтобы у кого-либо, кто действительно прочел это, хватит совести назвать Проханова посредственным литератором.
— Кто мог бы стать героем новой биографии? Помнится, я просил наших издателей ("Ад Маргинем"), чтобы они уговорили Данилкина сделать книгу о Лимонове. Мне отвечали, что Данилкин не хочет о Лимонове. Почему? И о ком тогда? (Просто жаль, если этот жанр биографии, слава Богу, живого человека закончится на книге о Проханове.)
— Вообще-то Проханов — как Руанский собор — его можно писать всю жизнь, разные его "эффекты"; я даже жалею, что из-за каких-то обстоятельств мне так быстро пришлось сложить свой мольберт. Лимонов? Лимонов необычайно любопытное существо с талантом, проявляющимся на уровне нейрофизиологии; его исключительный ум подсказывает ему кратчайший путь к достижению лучшего результата в самых разных областях деятельности; он всегда выбирает лучший эпитет, лучший глагол, лучший способ жизнестроительства; думаю, интересно изучить его органы высшей нервной деятельности — как Ленина, Павлова, Уэллса. Если б я был дипломированным сотрудником Института мозга и имел возможность считывать данные непосредственно из головы, как из Джона Малковича, то взялся бы исследовать биографию этого мозга без малейших колебаний. Никакой другой способ писать сейчас книжку о жизни Лимонова не кажется мне правильным. Дело еще в том, что про Лимонова пока что невозможно создать объективную книгу так, чтобы эта "правда о Лимонове" не была использована против него спецслужбами; меньше всего мне хотелось бы, чтобы этому человеку как-то повредила моя про него книга; я думаю, что дело, которое он делает, он делает, как всегда, очень хорошо.
Я бы с удовольствием взялся за биографическую книгу о Пелевине, там столько материала, мне самому страшно интересно, я, например, знаю, что какие-то Пелевины в конце 19 века по молоканской линии приятельствовали с Прохановыми, теми самыми, но он сам — Пелевин, я имею в виду — однажды наложил на нее нечто вроде табу, и я слишком уважительно отношусь к этой человеку, чтобы пренебречь его мнением.
К слову сказать, писатели заслуживают не только биографий, но и просто книг о своих книгах. Пожалуй, если у писателя Алексея Иванова дела будут идти такими же темпами, как сейчас, я бы, пожалуй, сочинил про него небольшую книжку, нечто в духе того, что Чуковский делал про Леонида Андреева.
Кто меня на самом деле волнует, так это давным-давно умерший Носов, Николай Носов, со своей Луной, вот уж кто, без всякой иронии, заслуживает персональной "ЖЗЛ", совершенно уникальная фигура; у него, кстати, в следующем году столетие. С другой стороны, я понимаю, что Гейдар Алиев и губернатор Подмосковья Громов важнее автора сборника "Тук-тук-тук", и уж конечно, Павленко и Горький именно этих двоих включили бы в свой список "замечательных людей".
— Как вы оцениваете сегодняшнее состояние русской литературы вообще? И состояние поэзии, прозы и критики в частности. Это три разных вопроса. Начнем, например, с поэзии. Читая "Парфянскую стрелу" я, если память не врет, нашел там одного поэта — Лосева. У нас беден поэтический рынок? Или все-таки специализация на прозе дает себя знать: на иное и времени не остается?
— Ох, Захар-Захар, "поэтический рынок", и вы заговорили оксюморонами. Как бы то ни было, я не думаю, что он беден; я думаю, что "игроков" на этом "рынке" довольно много потому, что называть себя поэтом — один из способов быть нон-конформистом; но если судить по текстам, это феномен скорее социологии, чем литературы. Вообще, я сейчас скажу странную вещь, но разделение на прозу и поэзию не кажется мне существенным. Какая мне разница, есть строки или нет, с рифмами написано или нет, если есть ритм — а большинство хороших прозаических текстов так или иначе ритмизовано, менее очевидно, чем стихи, но все же; там просто ритм может чувствоваться не на уровне строки, а на уровне главы. Поэзия — литературное вещество, его можно обнаружить и у "поэтов", и у "прозаиков". Мне кажется, сейчас "жизнь" — ну то есть когда скриптору удается сказать о внеязыковой действительности такую правду, которую никто больше не знает — в прозе, ну или, по крайней мере, рифмы и выделенные строки не принципиально способствуют обнаружению этой правды. Только поэтому я так редко заглядываю на собственно "поэтический рынок".
Что до критики, то, знаете… грех жаловаться, пока здесь есть такой, человек как Владимир Сергеевич Бушин, это мой кумир, он публикуется в газетах "патриотического" направления, но чаще прочего умудряется вести "огонь по своим"; его ненавидят все — но хотел бы я посмотреть на человека, который выдержал бы взгляд Бушина. Я думаю, он был бы в ужасе, если б узнал о моем существовании или о том, что я таскаю, так сказать, в своей ладанке пылинку с его подошвы, да и вообще, было бы странно набиваться в духовные сыновья к человеку, которые пишет такие книги, как "Сталина на вас нет… " и "Измена. Знаем всех поименно". Но если бы в 32 у меня было столько остроумия и компетентности, сколько у него в 83, я был бы безмерно счастлив.
— Теперь о прозе. Лев Данилкин славен тем, что порой создает — или принимает явное участие в создании литературных величин — и потом те же величины может безжалостно вытоптать. Такое было, к примеру, с тандемом Гаррос-Евдокимов. Или с Быковым, который вознесен в "Парфянской стреле" и чей "ЖД" опять же Данилкиным, мягко говоря, не принят. Здесь ничего не остается, кроме как заподозрить Данилкина в маниакальной честности. Он реально может перешагивать через любые человеческие отношения, и вгрызаться в глотку любым персонажам отечественной литературы?
— Захар, если вы уберете из вашей последней фразы вопросительный знак, я попрошу, чтобы ее перепечатали на обложке моей следующей книжки; с одной стороны, мне кажется, это единственно возможная репутация для человека, занимающегося этой профессией; с другой, это всего лишь рекламный слоган. На самом деле, во-первых, мои мышцы недостаточно хорошо развиты, чтобы я мог допрыгнуть прямо-таки до чьего угодно горла; во-вторых, у меня нет никаких "человеческих отношений" практически ни с кем.
— У меня тут следом появился частный, полуинтимный вопрос: а Лев Данилкин — он вообще какой в жизни человек? Злой, раздражительный? Или спокойный и умиротворенный? Вообще не создается ли у вас ощущение, что критики (как и писатели) порой реализуют свои комплексы и обиды путем остервенелой порки эстетических и этических недругов? Это не касается вас лично; да и не является на мой вкус большим грехом, и всё-таки — ?
— Я думаю, вы правы, выбор профессии тесно связан с психосоматикой. Я устаю от людей, от отношений, от разговоров быстрее, чем среднестатистический человек, я люблю помалкивать. Мне тут припомнилась одна из шуток Авдотьи Смирновой, давняя еще, конца 90-х. Она собиралась открыть клуб, куда все будут ходить, потому что там все будет наоборот. Лев Рубинштейн там будет охранником, Т.Толстая считать деньги за кассой, сама Дуня — улаживать конфликтные ситуации. А вы, Лева, сказала она (и задумалась, я даже испугался про себя, что сейчас она скажет — вы человек без свойств, для вас мы не сможем ничего подобрать), — вы, Лева, будете в этом месте конферансье.
— Можете расставить в приоритетном порядке сильнейших современных писателей поколения до сорока? (Вообще, рейтинги — это уместная вещь в литературе?)
— Если и могу, то тут мы столкнемся с определенными трудностями. Вы, знаете, например, что Пелевин, который, считается, 1962 года рождения, на самом деле, согласно другим каким-то документам, или псевдо-документам, 1964 или даже 1968 года, то есть, теоретически, тоже мог бы попасть в этот список. Но точно узнать об этом мы не имеем возможности; а раз мы даже Пелевина не понимаем, куда законопатить, с таким-то плавающим Икс, все эти списки по возрасту оказываются фикцией. И ладно бы только возраст. А все остальное — коэффицент фантазии, отмороженность, трезвомыслие, опыт — как все это можно адекватно оценить, чтобы затем расставить писателей в приоритетном порядке?
К счастью, я не веду интернет-дневник, где, чтобы подогревать интерес, надо время от времени выкидывать какие-то рейтинги, провоцировать читателей на составление собственных списков и так далее; я ничего не понимаю в этих манипуляциях, у меня есть какие-то персональные мои предпочтения, но я не хочу называть, из соображений показаться необъективным. Хотя, я тут вдруг подумал, пожалуй, есть относительно молодой писатель, которого я, в общем, проглядел. Мне страшно стало нравиться то, что делает Сенчин; чем больше я читаю его, тем яснее вижу, что это настоящий Мастер; знаете, я ему предрекаю место в самом высшем пантеоне.
— Что у нас с прозой маститой? Можете, опережая историю, расставить по местам современных живых классиков? Кто останется и кто исчезнет? Искандер, Маканин, Аксенов, Лимонов, Улицкая, Петрушевская, Битов…
— Захар, ну мы-то с вами и с Бондаренко знаем, кто сейчас живой классик номер один. Потом, существует ведь еще не магистральная история литературы, в которой ключевые фигуры — вовсе не Аксенов и Искандер, а, допустим, Владимир Микушевич, Леонид Латынин и Евгений Карасев, дикая комбинация, но идите-ка поспорьте с тем, что все они в той или иной степени величины . Мне кажется, применительно к "маститым" авторам, роль критика состоит не в том, чтобы наращивать количество золота на и так достаточно аляповатых рамах, а пополнять галерею другими портретами. Только тогда это правда будет история литературы — честная, неподтасованная; хотел бы я написать что-нибудь подобное.
— О собратьях-критиках будем говорить? У нас есть какая-то структура в работе современной русской критики? Каковы ее направления? Цели? Вокруг каких изданий группируются ударные группы критиков? Кто работает по одиночке? Как оцениваете работу Немзера или Басинского? Толстожурнальную критику читаете? Как к ней относитесь? Как относитесь к тому, что вас в толстожурнальных кругах, порою, мягко говоря, недолюбливают?
— Мне кажется, ударные группы критиков группируются, например, вокруг романа "Санькя"; вы знаете хотя бы одного человека в этой стране, пишущего о книгах, кто упустил бы возможность сказать что-нибудь на эту тему? Критиков не много и не мало; их количество прямо пропорционально количеству любопытных текстов; эти тексты и есть единственная структура, внутри которой существа, паразитирующие на писателях, в состоянии функционировать.
Толстые журналы. Несмотря на то, что там принят способ высказывания, который сам я не практикую, я с восторгом читаю толстые журналы, я чту высокую текстовую культуру, длинные цитаты и то подлинное величие, с которым тамошние авгуры помахивают своими инсигниями и делятся с нами результатами своих наблюдений за полетами литературных птиц; это своего рода священнодействие, слово "критика" слишком плоское. Толстые журналы — это целый мир, я готов там полы мыть, как, знаете, раньше устраивались в театр на Таганке полотерами, чтобы заполучить проходку на спектакль-другой. К сожалению, как только я со своими ведрами и швабрами прохожу мимо редакции какого-нибудь толстого журнала, происходит странная вещь: кто-то, как, помните, в фильме про Электроника, нажимает некую кнопку, которая заставляет меня бежать задом наперед и безвольно складываться в чемодан "Афиши".
Немзер? Кто я такой, чтобы оценивать работу Немзера? Он настоящий "хай-брау", лектор, профессор преображенский; я без иронии говорю. Я только вижу, что он игнорирует колоссальное количество замечательных текстов; он, кажется, вообще посчитал ниже своего достоинства читать канторовский "Учебник рисования"; наверное, у него есть на то основания; слишком тонкий вкус имеет свою цену.
Басинский — золотая голова, но мне было бы любопытнее поговорить, к примеру, о феномене Топорова; впрочем, о Топорове вы ведь не спрашиваете, так что я не стану набиваться.
— Отчего же? Прошлым летом в милую мою деревню на Керженце, в свой рай земной я увез две книжки — как раз, уж простите, вашу "Парфянскую стрелу" и "Похороны Гулливера" Топорова. Предвкушал наслаждение и не обманулся — хохотали с женой до упаду. Топоров очарователен. Так что о нем? И нет ли некоей внутренней, весьма потайной рифмы между Бушиным и Топоровым в восприятии Данилкина? Может быть, эти двое умеют нечто такое, что и Лев хотел бы уметь? (То есть, многие что-то умеют, что не можем мы — но нам это и на фиг не надо, а вот кто-то умеет и зависть берёт).
— Если бы все литературные критики вдруг исчезли и остался один Топоров, думаю, никто бы этого не заметил: у него столько энергии, что его хватает на всю литературу. Он очарователен, по-настоящему.
Что они умеют, Захар, эти двое, так это дать по яйцам; в жизни тяжело прожить без этого умения, но в критике, мне кажется, можно; я, во всяком случае, всегда полагал, что для критика эффективнее поднять бровь, чем врезать по яйцам; мы все-таки имеем дело с писателями, у них гораздо чувствительнее совсем другие нервные окончания.
Вообще, испытывая к Бушину и Топорову самые теплые чувства, я все же знаю, что у нас не вполне совпадают представления о должностных обязанностях критика, о том, в чем, собственно, состоит наша работа. Я, например, не думаю, что моя работа состоит в том, чтобы советовать писателям, КАК им писать, читать им морали, припоминать особенности их внелитературного поведения. Мое дело — максимально точно, по возможности, увлекательно рассказать о текстах, опубликованных авторами; максимально точно здесь означает, что если я вижу, что с текстом что-то не так, я говорю об этом.
Бушин — в большей степени — и Топоров — в меньшей — такие же герои ситуации, как писатели; у них достаточно развитая фантазия, чтобы вообразить, что перед ними не просто писатель, но противник — и раз так, они не описывают, а вступают бой, и бой контактный. Эти бои заслуживают того, чтобы покупать билеты за любую цену — но если вы приходите на такого рода состязание с желанием понять, что, собственно, это за текст, у вас есть шанс уйти разочарованным. Я даже больше скажу: если вы в самом деле думаете, что критики — полноправные партнеры писателей, вы не любите литературу.
— Сохранилось ли, на ваш взгляд, идеологическое разделение в современной литературе, и, в том числе, в критике? Знаете ли вы примеры отрицания отличных текстов критикой именно в силу идеологического неприятия?
— А вы посмотрите, Захар, чупрининский справочник "Современная русская литература": там автор сам себе посвятил две полных страницы, побольше, чем Пелевину или Алексею Иванову, а Бушина — который, между прочим, ветеран войны и автор десятка блистательных книг — в этой его литературе не существует вовсе.
Повторяю: если бы все было по-честному, рецензии во "Времени новостей" иногда писал бы Бушин — а Немзер участвовал бы в составлении проскрипционных списков в "Дуэли". До тех пор, пока это не произойдет, никакая объективная история современной литературы невозможна.
Беседовал Захар Прилепин
Фото Петра Алешковского
Все тексты рубрики Прилепин.txt можно просмотреть здесь.