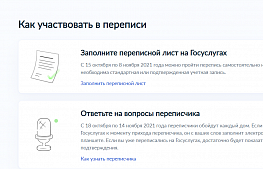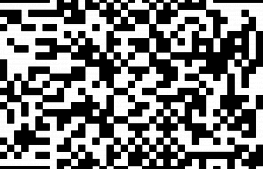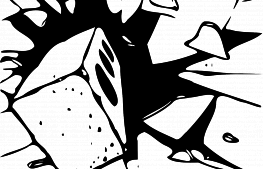«А паразиты — никогда!»
«И прослезился!»
Бывают дни, когда опустишь руки. И нет ни слов, ни
музыки, ни сил. Во дни сомнений, во дни тягостных
раздумий о судьбах моей Родины мнится мне одна чудная картина, будто бы писаная
мощными, ликующими, аляповатыми и грозными красками наподобие милого сердцу
патриота родной старины лубка.
Где-нибудь ровно в полдень, а может – и
в половине шестого, где-нибудь под Новый год, а может быть – и весенним голубым деньком, когда рассупонится солнышко, расталдыкнет свои лучи по белу светушку,
– вот в такой пригожий день, под благовест и стук колес где-нибудь на лужайке
Кремля, аккурат насупротив свежевыстроенной – (не спросясь горожан, вестимо, ну да что уж там) — громады
комплекса казенных правительственных зданий резвится и тешится
какой-нибудь такой-растакой-разэтакой оголтелый оппозиционер: морда вся перекошена, слюна стекает
в неприбранную бороду, сыплет проклятиями. Отводит душу.
А отводит он ее аккурат
посередке новорожденного дитяти демократичных властей – Гайд-парка. Да-да,
прямо тут, под окнами.
А из окон, умиленные, смотрят на эти проказы счастливые
родители – власти. Столпилися, облокотилися
на подоконнички – смотрят, внимают, сердце радуется.
Пиджачки, паркеры, монтбланы,
хьюгобоссы, кардены, сильвано латтанци, русское
золото.
Стоят чиновники, улыбаются, светло на душе. Тикают тиссоты, тикают омеги, тикают ролексы,
— нет не расходится гвардия народных тружеников – любо
им смотреть на дело демократии и свободы. Так и стояли бы здесь, вдыхая вешний
воздух необычайной живительной силы, часами, только бы не работать…
И генерал-хозяин нет-нет да и
толкнет невзначай локотком аншеф-городового: глянь,
какое диво благое мы учинили! И глаза у всех светятся гордостью, а и нет-нет да и блеснет из светлых глаз собравшихся умиленная
слеза…
«И прослезился!..»
И не слышно нигде ни воплей замученных-запоротых,
ни скрежета зубовного, ни хруста костей, ни стона, ни вздоха. Благодать и
свобода.
Полисмен в отутюженном платье парадном подойдет разве к распоясавшемуся ревлюцьонеру,
рукой взмахнет… – да и утрет ему слюну его, сбежавшую в радикальную бороду
батистовым платочком.
Аккуратно этак поправит перекошенную белую ленточку на бунтовшицком плече – и отойдет неслышно, полный почтения и
благородного такта, прихлопывая по хромовому сапожку красавицей плеточкой,
каковой так сладко, бывало, хрястнуть с растяжечкой –
размахнись, рука, раззудись, плечо! — ан ведь разве
хрястнешь…
Отойдет, родной, хромая да опираясь на тяжелую омоновскую дубинку: трудно ему, тяжко, ветерану борьбы за
дело свободы с поборниками несвободы.
«Мы – ветераны, мучат нас раны».
Отойдет, смахнет скупую свою мужескую слезу пудовым
кулаком в махровую душу, да виду не подаст. Орел, что и говорить.
Что-то он там сыплет, этот оголтелый,
посередь Гайд-парка? Вроде бы никому и не слышно.
Вот и писарь тут местный, Донос Протоколыч,
ушки свои пораскинул-выставил по-над пеньком, за которым, служивый, скукожился.
Слухает он слова, слетающие с небритых губ, силится,
болезный, зафиксировать оные речи — для истории, вестимо,
для истории – да ничего ведь не слышно из-за толстого стекла, которым место сие
огорожено.
Да и ладно. Главное – говорит же ведь.
Говорит свободно, полною грудью своею вдыхая вольный
воздух гласности. Вон, вон, рот разевает – значит,
говорит. А может, воздуху ему там не хватило, за стеклом-то? Шамкает, глянь,
как рыба на плесе?
Да нет, вроде как ораторствует еще, вития.
Голову мою клонит
вниз – значит, что-то в ней есть
Да здравствует солнце! Да скроется тьма! Оковы рухнули,
свобода нас приняла с тобой у входа!
Свершилось ведь: столько лет
боролись-сражались за свободное Слово!
Встаньте же, дабы могли вам поклонитися
освобожденные народы: вы — редакторы провластных
изданий, искоренявшие мракобесие и ошибочные мнения наймитов
и вредителей, жегшие каленым железом. И
вы не прячьте лиц, бойцы невидимого фронта и метатели зажигательных речей и
смесей в чумные дома. И вы, удальцы наши, орлики-полиционеры,
заплечных дел мастера. И вы, труженики-чиновники, бессеребреники
и правдолюбцы, радетели блага народного. Встаньте!
…Я иду по улице и голову мою клонит
вниз. Значит – тяжела моя голова, значит, что-то в ней есть.
Ласково светит солнышко, кому – на пустую макушку, а кому
– в лукавые очочки. Гуляет
ветерок – у кого в карманах дырявых штанов, у кого – в кондиционированных
салонах миллионщицких автомоторов. Шелковится травка-муравка зеленая, у кого – под босой
ступней, а у кого – под кованым сапогом.
Я иду по улице, а меня обгоняют и весело брызжут мне на
штаны весенней праздничной грязью дорогие лимузины. Это едут бизнесмены. По
работе: из ресторации — в сауну.
Едет разбогатевший бизнес малого и среднего звена,
разжиревший и благодушный. Едут пенсионеры в лексусах
и ламбордижини: они — за билетами в аэропорт, будут
путешествовать, осматривать истуканов острова Пасхи и нежиться на пляжах
курортов Краснодарского края. Едут учителя и врачи в скромных
мерседесах С-класса – сеять разумное, доброе, вечное.
Едут писатели и психиатры – проводить обязательные беседы о доброте в полиции в
качестве факультатива.
Вот у обочины притулилась одна
одинокая и хрупкая старушка, позвякивая кристаллами от Сваровски
– нужно бабушке перейти через дорогу. Стоит, посматривает на картье – торопится, а дорогу перейти не может.
Тут же к старушке подскакивает молодая гвардия из
«Цельнолитой России». Румяные, свежие, радостные до девиантности
лица – наше богатое, обеспеченное, сытое и беспечное будущее! Хваткими, ловкими
пальцами спеленута наша бабушка – и вот уж несет,
несет молодежь ослабевшую старость, что извивается в цепких и длинных руках цельнолитороссов.
Миг – и бабушка уж по тут сторону добра и зла, стоит,
прослезилась, без картье, без сваровски,
— но через дорогу-то переведена! А молодая гвардия машет и машет ей на прощанье
рукой, удаляясь от нее навсегда, пропадая, растворяясь в досужей и праздной
толпе, хохоча и брызжа искристым весельем, размахивая загребущими лапами,
радуясь жизни, и весне, и свету, и молодости.
Всю эту сцену моментально сняли на дорогие телефоны все 478
оказавшихся по соседству человек – сегодня же подвиг молодых станет хитом You
Tubа.
А по укатанной, очищенной, наконец-то от снега (после стольких-то
лет трудов!) дороге все несутся и несутся непроницаемые хаммеры. Ничто не мешает им эдак-то нестись: ни одно
шествие или, к примеру, митинг не омрачит этого свободного полета, этого
пружинистого гуденья.
Улицы чисты – и души чисты. Солнышко расталдыкнуло лучи
свои по белу светушку, угорели лучи его, а над угорающим городом развевается
наше славное знамя, поперек которого сама судьба начертала лозунг: «А паразиты
– никогда!».