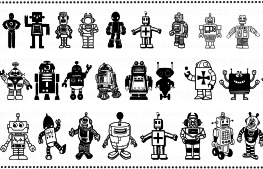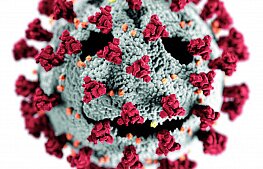Демократия как непрерывный суицид Стратегия Феникса: бытие ценой устойчивости
Стратегия Феникса: бытие ценой устойчивости
Слово «демократия» дискредитировано
сейчас едва ли не больше, чем «фашизм», и едва ли его можно употреблять в
серьезной дискуссии, не боясь растерять крупицы смысла в шелухе политики и
идеологии.
Но другого слова для обозначения
этого понятия нет, а поразмышлять над ним было бы полезно: при том массовом
увлечении этими относительно новыми нормами во всем мире, которое сейчас
наблюдается, «умственным инструментарием» для их оценки нам приходится
пользоваться устаревшим.
Если окинуть одним взглядом все,
что в истории или современности носило и носит название «демократического»,
получится невероятно пестрая картина, в которой трудно найти что-то общее. Мы с
легкостью употребляем термины «афинская демократия» или «рабовладельческая
демократия», «западная демократия» (уже в значении «страна»), «демократический
процесс» или «демократические элементы», но вряд ли так же легко сможем
ответить, что связывает все эти столь разнородные явления.
Исторические и этимологические
отсылки помогут тут меньше всего.
«Народ» — это абстракция (хотя
власть — это реальность), и выражение «власть народа», при всей красоте его
звучания, продвигает нас к пониманию не больше, чем лозунг «Свобода, равенство,
братство» — к пониманию сути, причин и последствий Великой французской
революции. Это только американской оппозиции удается каждый раз подавать дело
так, что ее предвыборная кампания — это борьба народа против преступной
вашингтонской администрации; будучи свергнутой, администрация на следующее же
утро преобразуется в «народ», и начинает планомерно двигаться к следующей
«народной победе». Это понятие вообще отличается такой размытостью и
спутанностью, что у него даже нет антонима: к слову «хороший» с легкостью
подбирается слово «плохой»; но для «народный» приходится говорить
«антинародный» (по-английски anti-national) — то есть даже бинарная дефиниция
тут невозможна.
Если же отвлечься от исторических
трактовок, которых вообще было великое множество, и взглянуть на демократию как
на живое явление, то самым характерным, устойчивым и при этом удивительным ее
признаком будет то, что можно назвать «идеологической текучестью»
(«изменчивостью» или «податливостью»).
Всякое государственное образование
строится на какой-то идее, объединяющей элиту и общество в целом, и
демонстрирующей заметную сопротивляемость к внешним воздействиям. Иногда эта
идея четко вербализована, как это было в Российской империи, почти целиком
державшейся на текстах петровского времени — бумагах, оставшихся от Петра Великого,
и хроник его времени (а точнее — описаний его действий). Иногда она больше
опирается на традиции и прецеденты, обычаи и неписаные правила.
Но именно такие идеи — это то, что
предохраняет государственные образования от разрушения, отделяя их от хаоса — в
том смысле, в котором всякая культура отделена от хаоса, чего-то темного,
неосмысляемого, опасного и неконтролируемого. «До нас положено — лежи так во
веки веков», сказал протопоп Аввакум об одной из таких «государствообразующих
идей», как раз в то время подвергавшейся наплыву отвратительных ему новшеств.
Во всех классических цивилизациях
древности такие идеи всегда были столпами государственности, на которых все
держалось.
От любых импровизаций в этой
области государства (в лице правительства) защищались, как могли, иногда и с
помощью пушек — как у нас на Сенатской площади. Это не отменяло бунтов, мятежей
и революций, а также иноземных вторжений, несших с собой новые идеи — но все
эти явления рассматривались всегда как чуждые и внешние по отношению к
государственности как таковой, что-то разрушительное, вредоносное и при любых
обстоятельствах «вне-государственное».
Демократия — это попытка привести
такие действия в систему, вплавить их внутрь государства как такового. Какой бы
прочной и основательной ни казалась идея, оформленная и воплощенная в
государственном устройстве, в обществе неизбежно возникают новые идеи, тоже
быстро набирающие плоть и кровь, если они оказываются перспективными и
плодотворными — и всегда эти новые идеи находятся в принципиальном противоречии
с теми, на которых государство держится.
От того, как оно реагирует на это
«идеологическое давление снизу», и зависит, демократическое оно или нет.
Дело не в том, что в обществе время
от времени обнаруживаются силы, желающие прийти к власти — к власти всегда
кто-нибудь желает прийти. Дело именно в этих новых идеях — какого бы то ни было
характера — у которых всегда есть шанс «подвинуть» (а при очень успешном
развитии событий — и заменить собой) общепринятую и устоявшуюся государственную
идею.
Фактически демократическое
устройство общества от всех других отличается только одним — повышенной
скоростью циркуляции идей, большей проницаемостью, что ли, стенок сосудов
государственного устройства.
Причем это не теоретическое научное
дискутирование, в котором идеи могут циркулировать с какой угодно легкостью и
быстротой, а очень практическое, с проникновением идей во власть, государство и
даже бюрократию — по крайней мере, высшую.
Уровень податливости государства (я
не говорю — идеологического государства, потому что всякое государство по
определению идеологично), восприимчивости его к этим воздействиям — и есть
показатель демократичности, самый основательный, удобный в пользовании и
одновременно формализованный, какой только можно найти.
Нам здесь приходится пользоваться
старым термином, хотя это не вполне правомочно: в классических демократиях
древнего мира эти элементы не были еще полноценно вплавлены в
государственность, они не расценивались как необходимый элемент общественного
устройства. Это достижение Нового Времени. Современная общественная мысль
просто воспользовалась в данном случае старым словом «демократия», наименовав
им новое явление — примерно как немцы, уничтожив славянское племя пруссов,
назвали получившуюся область Пруссией, или петербургский микрорайон Купчино,
раздавив собой некогда находившуюся на этом месте деревню, унаследовал ее имя.
Нельзя сказать, что в греческой
демократии не было этого элемента, то есть свободного движения идей. Он был
там, и, более того, именно этот элемент и является наиболее существенным для
понимания того, чем отличалось первое демократическое общество от современных
ему деспотических.
Вся разница в том, что этот мощный
круговорот идей не был в Греции постоянным; это колесо провернулось там один
раз, чего хватило для того, чтобы сделать огромный рывок вперед и снискать
славу первооткрывателя нового общественного устройства, но оказывается
недостаточным, чтобы понимать, что такое современная демократия.
Называть Древнюю Грецию
«демократией», вкладывая в это слово теперешние представления о демократическом
устройстве — это все равно что называть общество «революционным» только потому,
что много десятилетий тому назад там произошла революция (некоторые общества,
впрочем, как известно, этим грешили на протяжении довольно долгого времени).
Свободная циркуляция идей — это
кажется чем-то легким и естественным; так кровь циркулирует в организме,
принося живительный кислород к каждой клетке. Но на деле нет ничего труднее для
нации, чем покинуть твердую землю проверенного государственного устройства и
пуститься в бурное море идеологического творчества.
Холодный космический ветер идей,
дующий в этом пространстве, может перевернуть любую конструкцию, до сих пор
державшуюся на плаву; то, что он с собой приносит — это в полной мере
неизвестность, или, что то же самое — будущее. Кто знает, какой сложный и
мистический опыт пережили основатели наших государств, некоторые из которых
жили еще в мифологической древности? Так или иначе, они с ним справились, у них
хватило на это сил, и результатом этого усилия и стали линии нового
государственного образования, в котором бьется сердце темного эзотерического
опыта и бежит кровь некого таинственного, как будто нездешнего, не
принадлежащего к этому миру состава.
Кто мы такие, чтобы тоже начинать
экспериментировать в этой области? Пусть уж лучше все остается как есть —
может, дольше продержится.
Но если наш сосед на это решился,
нам тоже будет некуда деваться, придется тоже ставить опыты в этом направлении
— или с этим самым соседом, набравшимся чего-то нового и освоившегося с ним,
потом хлопот не оберешься.
Все попытки такого рода, более или
менее масштабные — это необыкновенно захватывающее зрелище, даже и для
стороннего наблюдателя. Мы уже привыкли к тем экспериментам, которые ставят в
этом отношении западные страны — и при этом, как ни странно, не разваливаются.
Но когда это начинает делать, например, Иран, неожиданно пускающий в свою
государственность элементы, которых там никогда не было (радикально-исламские
или наоборот, светские, западного типа) — у нас захватывает дух: а вдруг это
закончится уничтожением или самоуничтожением этого древнего народа?
На самом деле, по сути, подвергнуть
государства идеологической текучести значит заменить одну идею другой — идеей
более высокого порядка.
Государственное устройство во
Франции или России может быть разным, но русские и французы при этом никуда не
деваются. Советская идея погибла на наших глазах — но русская идея осталась.
Отличие здесь в том, что если
первое — осмысляемо и вербализуемо, то второе — неосмысляемо и невербализуемо в
принципе. Русская государственность может быть идеей какого-то одного человека,
но русская нация, если и чья-то идея — то только Господа Бога, и никого более.
Разрушить одно, положившись на другое — это акт незаурядной смелости, и еще
большая смелость нужна, чтобы заниматься таким разрушением на постоянной
основе.
Нации, которые преуспели в этом,
как сейчас Америка, напоминают юрких млекопитающих рядом с тяжеловесными
черепахами, которым именно их многотонная защита мешает выживать больше, чем
враги.
Бесконечная и надоедливая
американская риторика о демократии — это такое пощелкивание других стран по
панцирю: попробуй, побегай с такой штукой — кто быстрее добежит? Или: попробуй,
сбрось эту защиту — не страшно тебе без нее будет? Именно так Америка вскрыла
Советский Союз, как консервную банку, и сделала бы это еще раньше, если бы ей
не мешал собственный панцирь идеологичности, сравнительно меньший, но все-таки
достаточно большой.
Сейчас Америка судорожно пытается в
очередной раз обновить свои покровы. Удастся ли ей это — покажет будущее.
Тем же занимаются и некоторые
страны поменьше, и, если им удастся преуспеть в этом, не исключено, что они
смогут выработать государственную идею настолько широкую, что она станет
основой для объединения не менее масштабного, чем сейчас американское.
Оригинал этого материала
опубликован на ленте АПН.