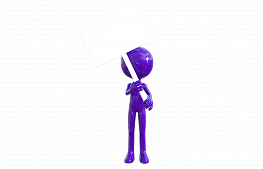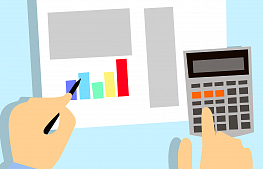





Это не демократия, а может, это демократия — я не знаю
Русский Журнал: Можно ли ставить вопрос о русской политической культуре не только с точки зрения ее специфики и самобытности, но через определение ее универсальных черт?
Александр Проханов: Я думаю, в русской политической культуре, которая берет свое начало в русском Средневековье, а может быть, и раньше, очень сильна иррациональная компонента. Она трудно выразима и часто остается неизреченной. Странным образом она входит в композицию уже рациональной компоненты русской политкультуры.
Например, категория "Москва — Третий Рим" вполне рациональна, но в ней скрыт такой огромный подтекст, имеющий и божественное и историческое измерения, что за пределами этой формулы остается главное ее содержание. Именно поэтому мне кажется, что русская политическая культура со стороны воспринимается как очень бедная. Она не наполнена лексикой, конструкциями, формулировками и несет в себе очень много поэтического, утопического, эмоционального.
И может быть, по этой причине западный рационализм свысока смотрит на русское политическое сознание. Но такой взгляд неправомерен. Русская политическая культура во многом мифологична. Она не боится оперировать такой категорией, как миф, потому что миф является инструментом познания не в меньшей, а, может быть, даже и в большей степени, чем рациональное знание. Мне кажется, что русская политическая культура мифологична, и в этом ее, с одной стороны, недостаток, потому что она очень трудно стыкуется с мировой или с западной политической культурой, а с другой стороны, достоинство, потому что будущее человечества, если оно у него будет, связано с мифологическими представлениями и способами укоренения в реальность.
РЖ: Насколько русская политическая культура востребована сегодня как часть мировой политической культуры?
А.П.: В той степени, в какой мир изучает Россию, ее культура востребована. Ведь мифологические или магические технологии неразрывно связаны с русской политической культурой. Только с их помощью можно понять наш континент, огромную Россию.
И недаром именно на Западе родилась такая банальная формула, как "загадочная русская душа". Она свидетельствует о том, что русская культура так до конца и не понята, не разгадана. И разгадывать ее Запад будет с помощью русских мифологий, как архаических, так и ультрасовременных и модернистских.
РЖ: Насколько, по вашему мнению, в русской политической культуре сильна демократическая традиция?
А.П.: Я думаю, вся синусоида русской истории связана с концепцией централизма, которая в разные века называлась по-разному — абсолютизм, великодержавие, диктатура и так далее. Эти всплески синусоиды связаны с централизмом, а падения и провалы в пропасть связаны с демократизмом, с демократическо-либеральной составляющей.
Так уж сложилось в русской истории, что, когда власть и политика были концентрированы и власти удавалось концентрировать очень небольшой ресурс русской истории и направлять этот ресурс либо на оборону, либо на развитие, либо на патронирование искусства, то тогда происходил расцвет и российская государственность увенчивалась светочами — полководцами, святителями, художниками, изумительными политиками. А когда абсолютизм начинал ослабевать или централизм начинал деградировать, то на поверхность выливались демократические тенденции и возникала так называемая игра свободных сил, что каждый раз приводило к крушению русских империй.
Первая Киевская империя разрушилась, когда возник демократизм удельных князей. Тогда и рассыпался огромный монолит киевско-новгородских, суздальских и владимирских пространств. Затем, когда Московское царство и Московская империя в своем централизме стали ослабевать и возник при Иване Грозном дворянский, боярский демократизм, который кончился Смутой и Семибоярщиной, Россия перестала существовать, то есть демократическая культура привела Россию к полному краху. Опять централизм, уже романовской, петровской, екатерининской руки, привел к величайшему взлету России, к золотому веку ее культуры, к расширению пространств, к потрясающим военным победам, и нарастание демократизма в конце XIX — начале XX века опрокинуло империю и превратило ее в прах.
То же самое было и в период сталинской империи, когда сталинский централизм достиг апогея, с его помощью была одержана огромная, историческая, космическая победа 1945 года, и все это рассыпалось, когда опять началась игра свободных сил. Девяностые годы — это и есть период расцвета демократии в русском ее варианте, естественно, и преодоление этой демократической традиции мы видим сейчас, она мучительно преодолевается, централизм возвращает себе позиции в русской истории.
РЖ: То есть вы считаете, что сегодня мы возвращаемся к жесткому централизму, без которого невозможно существование России? Или же новый централизм должен реализовываться с определенными демократическими элементами?
А.П.: Я бы сказал с неопределенными демократическими рудиментами, они же, эти демократические рудименты, были и в сталинской империи, которая была украшена демократическими институтами и эмблематикой.
Дело же не в самодурстве, дело в задачах, которые стоят перед современной Россией. Как, например, с помощью демократических процедур, которыми мы обладаем, с контингентом людей, политиков, политологов, которые обслуживают демократические институты, преодолеть тотальную коррупцию? Если бы был такой инструмент, который с помощью демократических процедур, выборов, создания гражданского общества мог бы победить коррупцию, я бы с радостью включился в этот процесс, но борьба с коррупцией — это борьба как бы с оледенением, это борьба с падением метеорита, это борьба с гигантской стихией, которая невозможна без централизма.
Или же как побороть такое разрастающееся, смертельное, может быть, уже неизлечимое явление, как пьянство и наркомания, которое захватывает все большие и большие слои русского населения и вычеркивает нас из истории? Это ситуация войны, это предельная ситуация. Как можно с помощью демократических институтов выиграть мировую войну? Я хотел бы посмотреть, как бы чувствовала себя Америка при Рузвельте или Англия при Черчилле, если бы они занимались всей этой парламентской чепухой и Рузвельту не позволили четыре раза переизбираться на пост президента.
Сегодня перед Россией стоят предельные задачи, а демократическая пресса и демократическое сознание не хочет их видеть. Нам предъявляют развлекательную часть политики, зашифровывающие колоссальные кризисные явления, которые превалируют, доминируют и увеличивают свою разрушительную силу. Преодолеть их можно только через кризисное управление, а топ-менеджер кризисного управления — это, по существу, диктатор. Диктатор — это топ-менеджер кризисного управления.
РЖ: Из ваших рассуждений следует, что у сегодняшней демократической России нет перспектив, необходим кризисный менеджмент, а следовательно, радикальное переустройство российской государственности.
А.П.: Знаете, это уже вопрос терминологии. Можно сказать, что Германия плавно эволюционировала от Веймарской республики к Третьему рейху, а потом плавно от Третьего рейха эволюционировала к республике Аденауэра. А можно сказать, что катастрофа Первой мировой войны, бессмыслица и безумие Веймарской республики понудило страну и ее элиту переформироваться, выбрать альтернативный вектор развития. То же самое аденауэрское царство: после краха, после того, как русские танки вошли и раздавили Третий рейх, потребовалась альтернативная история.
Поэтому сегодня я не представляю, как наша элита, которая погрязла в коррупции, которая ненавидит страну, боится народа, — как эта элита может эволюционировать в другую элиту, просвещенную, благородную, жертвенную.
Посмотрите, что говорит эта элита, мысленно ставя себя на место так называемого абстрактного русского народа. Она говорит, что русский человек должен жить хорошо, чувствовать себя в безопасности, иметь дом, семью, хорошие дороги и т.д. Все это правда. Наш "элитарий" действительно говорит о том, что нужно получить русскому человеку для счастья, но он ни разу за все это время не сказал, что должен отдать сегодня русский человек, чтобы получить то, что ему сулит элита. А отдать он должен очень многое: остатки жизнеспособного и деятельного населения, чтобы это население опять встало у станков, заняло места в гарнизонах, наполнило научно-интеллектуальные центры, занялось проблемой развития. Я не знаю, почему вы усматриваете противоречие в том, что я сказал сейчас, и в том, что вам удалось усмотреть в моих прежних суждениях.
Я всегда был централистом, сторонником сильной централизованной власти, но при этом всегда подчеркивал, что централизм, будь то советский централизм или сегодняшний, должен быть охвачен, окружен и освоен ультрасовременными культурами управления, теориями управления. Это такие теории управления, которые позволяют максимально эффективно справляться с огромными массивами явлений, массами людей, процессов, экономических корпораций. Это колоссальная теория, это то, что, условно говоря, называется организационным оружием — та сфера, тот массив огромных открытий, которыми обладал и поздний Советский Союз, и сегодня в полной мере обладает Запад. И эти организационные методологии, будучи использованы в мирных целях, позволяют создавать совершенное общество, создавать совершенную иерархию в этом обществе, как в области экономики, так и в области науки и культуры. Именно такая централистская концепции мне и близка.
А идея о самоуправлении, о том, что игра свободных сил выстроит все в гармонию, что рынок создаст экономию, что гражданское общество обеспечит нам гармонию интересов, — это все бред, потому сегодня даже американская демократия представляет собой абсолютно управляемую, охваченную централистским управлением модель социальной организации. Для того чтобы американское общество, внешне демократическое, могло существовать как целое, в него внедрены сложнейшие инструменты воздействия на коллективное бессознательное американцев. Американское общество — это объект для мощнейшего культурно-психологического воздействия.
У нас подобными практиками занимались такие люди, как Спартак Никаноров, как Кузнецов. Это гиганты, которых я в своих романах назвал великанами. И вот такого рода централизм, о котором они говорили, исключает ГУЛАГ, исключает террор, исключает силовое, жестокое воздействие на те области социума, которые не поддаются управлению, которые мешают. Не поддающиеся управлению элементы социума и мешающие основному сигналу элементы социума на самом деле свидетельствует о недостатке культуры управления. Политическая культура должна быть настолько многомерной и многослойной, чтобы любой сигнал, получаемый из неблагополучного участка системы, мгновенно улавливался, получал отклик и внутренний конфликт мгновенно исправлялся, гармонизировался.
РЖ: А можно ли рассматривать демократию не как форму правления, а в целом как способность народа организовывать свое социальное пространство?
А.П.: Мне трудно судить. Во-первых, социальное пространство России — это шестая часть суши, и в этом социальном пространстве огромное количество льдов, огромное количество половодий, огромное количество задач, огромное количество врагов, которые хотят съесть нефть, алмазы или пресную воду. И это социальное пространство освоить в полной мере без централизма невозможно. Давайте поручим какому-нибудь ЖЭКу осваивать территорию от Новосибирска до Красноярска — не получится.
Конечно же, дико думать, что централизм должен определять отношения в семье или в церковном приходе. Церковный приход — это тоже очень интересная социальная молекула, в которой присутствует и демократия, и промысел Божий, и "диктатура" Творца.
Поэтому я думаю, что в централистском государстве неизбежно есть место для свободы. Система не может жить без свободы, об этом говорил еще Струве. В любой системе, претендующей на суперорганизацию, всегда остаются зоны, принципиально недоступные организации, есть зазоры.
РЖ: Но где эти "зазоры" в российском обществе, если мы говорим о необходимости централизации для решения крупных, глобальных проблем?
А.П.: Эти зазоры находятся на стыках корпораций. Чтобы существовала сильная Россия, у нее должна быть сильная корпорация РАО "ЕЭС", рядом с ней должна быть сильная корпорация "Газпром", должна быть совершенная корпорация РАО "Российские железные дороги", а также промышленность, авиапром. Эти большие или малые корпорации являются, по существу, формами централизма. Жизнь в корпорациях строго детерминирована, это жесткая жизнь. Чем крупнее корпорации, тем больше в них централизма. Но стыки этих корпораций обеспечивают свободу, и вот на этих стыках и возникает элемент игры.
Если говорить об отдельно взятом человеке, корпорации обеспечивают корпоративные вечеринки или коллективные поездки куда-нибудь на Багамы. Но я говорю о макроситуации, на стыках этих корпораций возникают движения, эти корпорации друг с другом играют, взаимодействуют, конкурируют, сотрудничают, и там возникает всевозможная инвариантность. И в этой инвариантности наш социум и получает возможность всевозможного выбора, свободы. Есть согласительные процедуры, которые не бьют кувалдой по голове, а вырабатывают самые разные формы компромисса, есть всевозможные типы конкуренции, которые тоже обеспечивают выбор. А если говорить о президентских выборах или выборах мэров, я этого не чувствую. Я думаю, наоборот, все, что происходит в этой сфере, во многом профанирует саму идею свободы.
РЖ: Получается, что возможности культуры, возможности свободы, возможности выбора действительно ограничены какими-то локальными ситуациями?
А.П.: Конечно, ограничены. Ведь культура развивается в табуированной среде. Как только кончается табуированный мир, культура перестает существовать. Культура живет среди запретных зон, среди заповедников, она вписывается в эти очень сложные запреты, где достигает своего расцвета. Когда у культуры нет ограничений, возникает очень сложная ситуация. Не хочу быть банальным, но наш древний иконописец Рублев жил и всегда действовал в ситуации жестких нормативов, жесткого канона и, находясь в этом жестком ограниченном пространстве, добивался колоссальных успехов. Возникала удивительная концентрация энергии, и за счет запретов, за счет табу накапливалась эта энергетика. Табуированные периоды культуры связаны с огромным, гигантским внутренним напряжением, с внутренним накоплением, и это напряжение, эта полнота и создают внутренний трепет этих культур. Вся мистика западного, и русского Средневековья связана с переполнением нашего мира колоссальными энергиями, которые искали себе очень сложные формы выхода и находили их. А потом наступала пора растабуирования культур, когда Мадонны становились просто кормящими матерями, когда возникал ренессанс и вырывались все эти энергии, сначала в виде дивной красоты, а позже в виде классической мертвечины, до тех пор пока опять не начала собираться колоссальная энергия и не стали устанавливаться самые разные запреты.
РЖ: То есть жизнь культуры подобна действию "пружины" — сначала накопление, то есть сжатие, а затем — выброс?
А.П.: Да, энергия вырывалась, и возникал гигантский протуберанец, и в этом протуберанце, с одной стороны, происходило оплодотворение огромных пространств, а с другой — расходование, очень часто смертельно опасное для культуры. Поэтому надо думать, скорее, не о политической культуре, а о культуре как таковой. Русская политическая культура, конечно, очень окрашена культурой вообще, она окрашена категорией красоты, категорией эстетики, божественностью. Поэтому я и говорю о том, что она иррациональна, очень эмоциональна. И в сегодняшнем нашем российском мире недостаток культуры, отсеченность культуры от политики, уход культуры либо в катакомбы, либо в разгул, в вертеп болезненно сказывается на политических технологиях, которые упрощены, обнажены, недейственны, сухи и, по существу, перестают быть технологиями.
Я думаю, что в этих технологиях, как ни странно, самым красивым является черный пиар, та жуть, которая врывается в наши политические технологии. Это сатанинская, но все-таки эстетика. Это эстетика распада. Она оживляет все наши политологические процедуры, она делает их живыми и действенными. Она, правда, апеллирует к человеческой преисподней, в мир его тьмы, но этот мир тоже существует, и с помощью этих апелляций политологам удается многое. А такие вещи, как красота, как возвышенность, как музыка, мистика, как мистерия, очень редко залетают к нашим политологам.
РЖ: Из всего, что вы говорите, у меня создается такое впечатление, что демократия — это тоже как некая корпорация, то есть какое-то состояние людей с определенными взаимоотношениями, с определенным мироощущением, мировидением, и, как в корпорации, там тоже происходят какие-то сжатия, выплески и так далее.
А.П.: Я не знаю, у меня нет такого опыта. Я готов на эту тему фантазировать, но моя жизнь связана с другим опытом. Я прожил несколько лет в деревне, среди мужиков, лесников, крестьян, и я видел в их лице замечательных, свободных, очень интересных, раскованных людей, имеющих взаимодействие с близкими, с природой, со своей властью, друг с другом, дерущихся, пьющих, строящих, умеющих наслаждаться природой, — но называется ли это демократией? Это была советская пора, это был ранний брежневизм, но это была форма жизни, которая мне казалась очень полной, цельной, интересной, она захватывала меня. Что это — демократия или это просто форма бытия? Не знаю. И при этом это была, конечно, авторитарная структура, был лесничий, нужно было платить налоги, были фининспекторы и так далее.
Потом у меня был опыт поездок по огромным заводам, по гигантским стройкам. Я видел, как строятся атомные станции. Там не было ни ГУЛАГа, ни Берии, это был сложнейший организм взаимодействия тысяч людей, инженеров, рабочих, движения материалов, соединение стали, огня, идеи, идеологии, истерии, романтизма, срыва, гнева, провала. Огромный мир этих строек — это что было, демократия или нет? Я не знаю.
РЖ: Но этот же порыв берется откуда-то? Его же невозможно создать административно?
А.П.: Ковчег строили так же — что это было, демократия? Это была целесообразность, это была жизнедеятельность. Кстати, наши великие стройки, на которых я был, — это такая площадка, где централизм обеспечивался или его хотели обеспечить сложными управленческими культурами — сетевое планирование, была мотивация.
Когда была мотивация труда, когда это артель, все люди друг на друга смотрели, они вырабатывали социальность, они говорили, что смысл работы не в создании машин, не в создании нового поколения машин или реакторов, а в создании все новых и новых форм социальности. С каждым новым поколением моторов, или двигателей, или пушек, или ядерных реакторов отношения между людьми, которые их создают, становятся все более полными, сочными, сущностными, наполненными все более высокими человеческими категориями. И выращивая новые поколения машин, люди, их творящие, выращивают и себя. Но это не демократия, а может, это демократия — я не знаю.
Это соединение мира машин или мира индустрии, рукотворного мира с постоянной потребностью людей и человечества совершенствоваться в процессе создания этих машин. Я убежден, то, что вы называете демократией, а я называю централизмом, — это несущественное расхождение в понятиях. Потому что если культурные технологии, о которых я говорил, используются, если они внедрены в социум, они могут сделать эффективными как демократические варианты, так и централистские, недемократические варианты организации социума. Можно добиться той же самой эффективности, не только на производстве, но и при взращивании социального, при взращивании человеческого, при взращивании отдельно взятой человеческой личности.
Я думаю, задача человеческая не в том, чтобы плодить все новые и новые механизмы и машины, а в том, чтобы постоянно функционировала фабрика людей нового типа. И если эта фабрика новых людей нового типа, которые все сложнее, все интереснее, начинает работать, то возможности культуры расширяются с каждым новым поколением. Но это достигается необязательно через демократию. А как устроены буддистские монастыри или русские монастыри?
РЖ: Очень демократично.
А.П.: Не знаю, я в буддистских не был, а русские монастыри — это игумен, очень жесткий пастырь, это жесткий устав, где все это регламентировано, никакой воли, это огромный гарнизон, но это гарнизон Господа Бога, а не полководца или генерала.
РЖ: Но здесь движет людьми идея.
А.П.: Там они достигают высшей свободы, при регламентированном внешне социальном мире. При диктатуре монастыря человек, глубоко верующий, обретает колоссальную свободу в Господе, то есть в идее.
РЖ: Но, как мне кажется, человек приходит к вере, пытаясь обрести свободу, а жесткая централизация — вторична для него. А когда мы говорим об обществе вообще, в широком смысле слова, у значительного количества людей нет этой идеи.
А.П.: Конечно, если эта идея привносится жестко, если вас заставляют любить фекалии, вам не удастся из них салат какой-нибудь хороший сделать. Вот пример: советское общество времен сталинизма. Ведь советское общество времен сталинизма, по существу, сейчас не изучают, его обычно топчут, шельмуют, с ним обходятся как с абсолютно тупиковой моделью развития. Но это было общество, которое порождало целые плеяды героев, подвижников, победителей, новаторов, людей одержимых, фанатиков. С одной стороны, это общество постоянно репрессировало народ, с другой стороны, оно наделяло народ огромными задачами, причем оформляла эти задачи в ослепительном футурологическом контексте. И это сочетание подавления, очень грубого, жестокого и неэффективного, с одновременной ослепительной футурологией, и создавало поразительный тип сталинского общества, только за счет этого и удавалось победить в войне, создать предвоенную мощную индустрию, а потом восстановить Советский Союз. Кстати, ощущение подневольной неизбежности и необходимости свойственно любому человеку в любой стране — неизбежности смерти, неизбежности жертвовать собой ради любимых, ради детей. И во многом люди, которые оказывались в ГУЛАГе, воспринимали случившееся с ними как форму неизбежного, связанного с бытием давления.
С другой стороны, возникал поразительно раскрытый человек, когда ему предлагалось стать человеком-богом. Сталинские технологии предлагали человеку стать человеком-богом, отсюда и возникли эти летчики, отсюда эти инженеры, отсюда вся эта сталинская футурологическая культура, отсюда сталинская Большая советская энциклопедия, которая, по существу, переписала весь мир. Она сказала людям, что мир, который вы знали прежде и который имел такие определения, такие дефиниции, неправильный, потому что растение — это не то существо, которое растет корнями в землю, а кроной и цветами ввысь, нет, это может быть такое существо, которое на самом деле обладает таинственным самосознанием, способностью влиять на человеческую жизнь, и в каждом из растений живет душа, и жизнь одной былинки, если правильно на нее воздействовать, может изменить состояние целых лесов, целых массивов.
Сталинское представление о человеке, о социуме, с одной стороны, повторяю, давало всему человечеству возможность какой-то поразительной исторической альтернативы, оно предлагало человечеству другую, райскую историю, а с другой стороны, в человеке было такое количество бренного, традиционного, мертвенного, земного, что эта часть бренного, то есть обыденного, человека подавлялась огнем и мечом. Вот это очень интересный, страшный для отдельно взятого человека опыт, но для политтехнологов он остался невостребованным.
РЖ: Но тогда получается, что, с одной стороны, у России определенная, совершенно отличная от других стран, таинственная и очень высокая миссия. А с другой — если мы отказываемся от каких-то общемировых ценностей, а демократия — общечеловеческая ценность, то мы вновь оказываемся в изоляции.
А.П.: Общемировыми ценностями являются любовь, жизнь и красота, а не демократия. Демократия — западная ценность, формула, выработанная в одной из частей мира. Кроме того, эта часть мира стала сильной вовсе не благодаря демократии, ведь демократия пришла в мир после пуритантизма, после лютеранского, протестантского взлета, индустриализма — какая там демократия времен раннего английского капитализма? Просто взлет Запада, который стал машинным энергетическим взлетом, обеспечил теперь для Запада возможность продвижения демократии как политического инструмента. Но демократия не универсальна.
Если мы согласимся с тем, что ресурсы Земли не вечны, что мы стоим на пороге экологической катастрофы, что кончается нефть, что начинается великое потепление и затопление огромных пространств цивилизованной Земли, то все равно придется прибегнуть к регулированию, к цивилизованному регулированию. Демократия, выработанная на Западе, привела, по существу, к вырождению Запада, белая раса деградирует. Я считаю, что замечательные страны, такие как Швеция, Швейцария, Германия, чем дальше будут совершенствоваться, тем меньше их останется на земле. Там так хорошо человеку, что он не хочет оставить после себя никакого продолжения. Демократия убивает Запад. А недемократические народы, такие как мусульманский мир, тот же Иран или Китай, демонстрируют просперити, за ними будущее, у них рождаемость, у них дисциплина, у них соединение архаического, древнего, соединяющего их с глубинными источниками родовой энергии, с модернизмом, который не становится разрушительным и сокрушительным.
Вот свидетельство того, что демократические ценности не являются общечеловеческими, они локальны по отношению к человечеству в целом, они временны. Этим демократическим ценностям очень мало лет, и у них нет будущего. Человечеству придется дисциплинироваться, человечеству придется выбрать альтернативу своему поведению на Земле, и эта альтернатива захватит все институты, в том числе и так называемые демократические, эта альтернатива захватит вообще тип мышления и тип сознания. И очень важно понять, где в человечестве заложены резервы этих альтернатив, посмотреть на банки, в которых хранятся эти реликты. В реликтовых цивилизациях были заложены иные возможности инобытия, сейчас нужно провести инвентаризацию этих банков. Кстати, сталинская эпоха — огромный банк альтернативных технологий. Так что никаких общечеловеческих ценностей, именуемых демократией, с моей точки зрения, не существует.
РЖ: Но ведь именно демократический социум и позволяет выявить множество исторических альтернатив. В этом и заключается универсализм демократических обществ — они не однозначны, многомерны.
А.П.: Какой же это многомерный социум? Что многомерного, например, в американской двухпартийной системе? Это триггер, плюс-минус, черное-белое, демократы-республиканцы, республиканцы-демократы. Это очень примитивная система, двоичный код. Многомерность — это когда тысячи партий, тысячи школ, сто цветов — вот что такое многомерность. А в той же Америке очень примитивный механизм — одна партия, вторая партия, одна партия, вторая партия, там нет никакого выбора. По существу, эти партии идентичны. Если бы одна партия, к примеру, отстаивала черное рабство, а другая бы отстаивала гомосексуализм, то действительно была бы разница. Но эти две партии представляют на самом деле один и тот же народ, с одними и теми же укладами, ценностями.
РЖ: Просто через ту сложность и многомерность, которую вы имеете в виду, Соединенные Штаты уже изжили?
А.П.: Может быть? У них больше нефтяных корпораций, а у нас — военно-промышленных корпораций, у них больше электроники Силиконовой долины, а у нас — в большей степени лесозаготовка или строительная индустрия. Я думаю, что как раз централизм обеспечивают цветение, и Америка велика не потому, что там есть демократы и республиканцы, а потому что Америка — империя. Величие Америки в том, что, будучи финансовой империей, будучи военной империей, будучи культурной экспансивной империей, она захватила и захватывает мир. И мир она захватывает не через демократические институты и процедуры.
РЖ: То есть демократия — это всего лишь инструмент влияния?
А.П.: Демократические формы, которые унаследованы от предшествующих эпох, — это не более чем формы приличия. Прилично быть демократичным и неприлично — недемократичным. Но под этими демократическими приличными оболочками давно уже существуют другие инструменты управления, эти инструменты во многом для нас загадочны. Их нельзя сводить к действиям американского Генштаба или американских разведок, это очень сложные системы, которые не описываются категориями централизма или демократии, это новые огромные культуры и субкультуры, с помощью которых американцы научились управлять историей как таковой. То есть они научились управлять убыстрением истории, замедлением истории, они научились или учатся управлять ускорением истории. И, повторяю, это огромная цивилизационная тайна, которой они обладают или к которой они приближаются, но это никакого отношения не имеет к демократии или к тоталитаризму.
РЖ: Правильно ли я понимаю, что уникальные внутренние возможности российского общества позволили этап демократического развития как бы перешагнуть.
А.П.: Ну хотите — думайте так, хотя я думаю иначе. Наше общество слишком элементарно, оно слишком простое, это общество нерафинированное, в нем нет сложности. Это общество, утратившее сложность, утратившее советскую концептуальную сложность. И нашему обществу необходимо эту сложность наращивать. Наращивать эту сложность невозможно ни в "Единой России", ни в "Справедливой России", эти образования, эти организации исключают всякое наращивание сложности. Поэтому зародыш этой сложности может возникнуть в чем-то очень альтернативном, это можно условно назвать центром развития.
Развитие, о котором я говорю, будет связано с новыми методиками создания иерархии взглядов, иерархии суждений. И место, где они будут создаваться, еще не выявлено, мы даже не знаем, где оно может свить себе гнездо. Оно не может себе свить гнездо ни в партиях, ни в крупных сегодняшних корпорациях, его нет в правительстве, его нет в Совете Безопасности, его нет в современных разведках, его нет в Церкви, его нет в культуре, но запрос на него огромен.
Я думаю, что сегодняшняя власть или завтрашняя власть будет все-таки вынуждена создать этот центр, эту огромную фабрику и туда вбухивать деньги, а не в коттеджи или в медицинское оборудование. И новый субъект развития окупит все усилия и все траты, которые сейчас у нас пытаются вбухать в ту или иную отрасль.
РЖ: Это некая супернациональная идея?
А.П.: Это то, чем обладает Америка. У Америки есть этот загадочный, таинственный субъект, который обеспечивает им победы, он обеспечивает им превосходство, он обеспечивает им разрыв в миропонимании и в целеполагании, разрыв между человеком и муравьем. Мы должны прекратить падение в никуда.
Беседовала Наталья Давлетшина
Оригинал этого материала опубликован в Русском журнале.