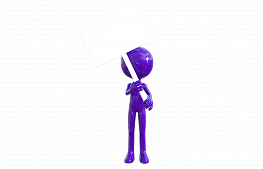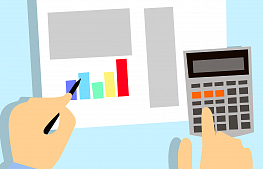





Как можно обвинять меня в нелюбви к истории и архитектуре?
Захар Прилепин: Мы будем отчасти задавать вопросы, которые
набили всем оскомину, отчасти — те, которые вам вряд ли задавали раньше.
Задавайте любые вопросы…
З.П. Как вы себя чувствуете?
Нормально, как обычно говорят в
таких случаях, — «уверенно» (смеется).
З.П. Вы вообще отдыхаете?
Отдыхаю, бывает. В основном на
рыбалке, охоте. В августе съездил к друзьям в Болгарию на пять дней. Я вообще
стараюсь брать отпуск на несколько дней, но делать это почаще.
З.П. А в Нижнем вы уже нашли
какие-нибудь места для отдыха?
Да. На рыбалку, например, езжу в
Васильсурскую слободу, на Суру, в Городец — на Горьковское море.
З.П. У вас есть какой-то круг друзей, с которыми вы
рыбачите, или одиночество здесь
предпочтительнее?
Рыбалка, как и охота, — особенный
процесс: сидишь, ждешь зверя и в это время думаешь — никто не мешает, тишина,
кричать опять же нельзя…
З.П. Понимаю. Ну что, перейдем к
политике?
Эмилия Новрузова: С места в карьер, если позволите.
Валерий Павлинович, вы будете участвовать в губернаторских выборах в 2015 году?
Все будет зависеть от здоровья,
желания, конкретной политической ситуации. Я буду решать сам. Если посмотреть
историю, меньше трех сроков работать неэффективно. Во время первого начинаешь
анализировать, вникать в новую для тебя ситуацию, выставлять людей, продумывать
стратегические, тактические программы. На втором сроке начинается их
реализация. А третий срок — это уже отдача. Поэтому когда я пришел в 2005-м,
сразу занялся этими вопросами. И стратегия развития региона, разработку которой мы инициировали,
рассчитана до 2020 года. Мы разбили ее на три пятилетних срока. И по этой
Стратегии, мы выходим на уровень среднего европейского государства. Например,
Чехии. По всем показателям — экономическим, социальным. Конечно, до Норвегии с
ее душевыми доходами нам далеко…
З.П. Ну, у них нефть.
Да (смеется). До 2010 года
мы проработали в рамках Стратегии. Следующее пятилетие мы продолжим ей
следовать. Динамика, даже с учетом кризисов 2008-го и 2009-го, положительная. И
мы придем к нужному рубежу, я уверен. И конечно, хотелось бы получить дивиденды
по окончании реализации Стратегии, чтобы можно было сказать: «Мы это сделали».
Если говорить о возвращенной выборности, меня это абсолютно не пугает: я
неоднократно и избирался, и назначался. Если посмотреть историю Нижегородской
области, здесь были и назначаемые губернаторы, и избираемые. Кто лучше, пусть
народ судит.
З.П. Если я правильно понял, вы не будете обсуждать,
насколько формален сам закон о выборах губернаторов, но лично вы готовы быть и
назначаемым, и избираемым?
Конечно. Это моя профессия. Я уже
давно работаю на территориях. Еще с советского времени — функции председателя
исполкома те же самые. То есть по возможностям, законодательным нормам и
правилам игры — они, конечно, отличаются от губернаторских, а вот по цели –
сделать жизнь людей более комфортной — совпадают полностью. Если человек этих
целей хочет достичь, он должен использовать любую ситуацию, которая ему дает
ресурс для выполнения задач.
З.П. У меня личный вопрос. Вот вы работали в советское
время и продолжаете работать сейчас. Есть ли какие-то принципиальные различия
между тем, как работали управленцы тогда, и тем, как они действуют сейчас?
Могу сказать, что в нынешнее время
работать легче, комфортнее и эффективнее. Потому что по сути дела все зависит
от тебя. Высшее должностное лицо в регионе — это человек, которые решает все и
отвечает за все. Хорошая формула. Раньше многое решалось за тебя, ты был
исполнителем чужой воли. Это как включенный бульдозер. А сегодня ты должен
думать, как работать в условиях рыночной экономики, как больше заработать в
бюджет региона, как эффективнее потратить заработанное, на что потратить, как
ответить на те проблемы, которые есть в конкретных населенных пунктах и
районах.
З.П. Не все регионы могут похвастаться положительной
динамикой по сравнению с показателями в советское время, как и не все
губернаторы могут отчитаться по растущим по сравнению с тем временем
экономическим показателям — стройки, сельское хозяйство, демография…
Ну почему… Условия работы у всех
одинаковые. Сегодня, в соответствии с Конституцией, 50% заработанных средств
остается в регионе, остальные 50% уходят в федеральный бюджет на исполнение
федеральных функций. За исключением тех субъектов Федерации, которые много
зарабатывают. Например, в Москве остаются только 38%, в Тюмени — и того меньше.
То есть коэффициенты работают. Мы должны, прежде всего, понимать условия игры.
Из чего складываются доходы региона: основа — налог на прибыль промышленных
предприятий, налог на доходы физических лиц, налог на имущество — в первую очередь, на основные фонды
экономических структур. То есть регион живет от дела. И чем больше ты это самое
«дело» развиваешь в регионе, тем выше твои экономические показатели. Ты можешь
вообще ничего не делать и быть дотационным, но это твое решение, это ты как
высшее должностное лицо принял решение: мол, ничего делать не буду, мне деньги
пришлют — я их потрачу, поднимается цена на уголь — я скажу, мне больше денег
дадут, и неважно, что у меня собственное месторождение угля, зачем мне его
разрабатывать — шахты, взрывы, дискомфорт. Президент же не заставит строить
заводы. И вообще, я вам скажу, если вы почитаете, какие полномочия закреплены
законодательством об органах исполнительной власти, вы увидите, что можно
работать губернатором формально, а можно неформально. Вот вы мне звоните и
говорите: «Валерий Павлинович, а у вас половина Нижнего Новгорода без электричества».
А я отвечу: «При чем здесь я? Есть мэр». Потому что в соответствии с законом,
жилищно-коммунальными проблемами занимаются органы местного самоуправления. А у
меня в бюджете даже денег для этого нет. Но я так сказать не могу, как вы
знаете. Раз пришел сюда работать — это и твоя проблема тоже.
З.П. Представим себе ситуацию. Вот вы отработали три
срока, пришел на ваше место в силу грустных обстоятельств не очень удачливый
губернатор, нехороший и непрофессионал. Но есть такие дела, которые не задушишь,
не сотрешь. Вот оставил после себя Шанцев что-то — и все тут, будет стоять, как
памятник. Есть такие дела?
Я не думаю о своей фамилии, о том,
что я оставил или не оставил. Есть проблемы, которые надо решать. Вот висит
карта (показывает на стену с картой автомобильных дорог Нижегородской
области). Когда я пришел сюда, смотрю — пробки. Эту проблему надо решать.
Город-миллионник, который не имеет ни ключевой дороги, ни объездной. Что должен
делать губернатор? Ускорять решение этой задачи. Вот трассу М7 начали строить в
южный обход Нижнего Новгорода, потому что это самый напряженный международный
транспортный коридор с запада на восток. И мы от него никуда не уйдем. Все
равно весь автомобильный транспорт — и с востока на запад, и с запада на восток
— пойдет через нас. Потому что ему больше некуда идти. Первую очередь — 16
километров — строили 12 лет. Как там говорил Некрасов: «Жаль только — жить в
эту пору прекрасную…». Вторую очередь — 15,5 километров — построили за два
года. Пришлось очень плотно работать с Правительством РФ. Сейчас мы находимся
на втором пусковом комплексе третьей очереди, и еще надо строить четвертую. Я
считаю, что есть три года — и больше времени не дано — на то, чтобы выйти на
Казанское шоссе и сделать Южный обход. Восточно-Северный обход — мост в
Подновье. Как ни трудно было, мы его спроектировали, прошли строительную
экспертизу, сейчас в рамках концессии «Внешэкономбанк» завершает этот проект —
речь о 70 миллиардах. Я понимаю, что мы не найдем денег в бюджете за такой
короткий период времени. Конечно, можно сделать эту дорогу платной — я думаю,
многие коммерческие автомобили предпочтут заплатить эти 150-200 рублей за
проезд от Казанского шоссе до Кировского без светофоров и пробок, чтобы не
ехать через город, часами преодолевая нагруженный городской трафик. По закону
мы можем так поступить, потому что у нас есть вторая трасса, по которой можно
ехать бесплатно. Получится так, что и тем, кто бесплатно будет ездить, будет
лучше, потому что те, кто могут платить, перейдут на другую дорогу. Мы уже
заканчиваем проектировать второй мост — рядом с Борским. Вдумайтесь, на 300
километров один только мост, 1965 года постройки. Когда я только пришел
губернатором, увидел, что он весь в ухабах, по нему ехать можно со скоростью 4
километра в час, не больше.
З.П. Вот только что по нему проехал…
Сейчас там — немецкие температурные
швы, положили новый асфальт, по нему сейчас хоть ездить можно. Да, он узкий.
Параллельно ему мы можем строить еще и двухполосный мост и расширять дамбу.
Плюс северный обход — в районе Большого Козино.
Канавинский мост ремонтировали,
метромост построили, движение по нему запустили, Окский съезд расширили — все
это не просто так, чтобы оставить после себя. Поэтому думать надо не о том, что
оставлять, а как проблемы решать.
Единственное, с чем можно было
подождать, но вопрос был чисто принципиальным — это меня так проверяли на
вшивость, как я говорю… Когда я проходил собеседования на должность
губернатора — с депутатами, общественностью, промышленниками и
предпринимателями, — все у меня спрашивали: мол, Валерий Павлинович, а вы цирк
достроите ли нет? Я все думал, что это за цирк такой, что про него все вопросы
задают. Недели через две после того, как я получил документ о наделении
полномочиями, я приехал на этот цирк, репу почесал (смеется) и говорю:
«Может, взорвем его и новый построим?» Там же 10 подрядчиков сменились, наваяли
такой объект, каких я и не видел никогда еще… Ну, потом сели со специалистами
— нижегородскими, кстати, не московскими, как многие думают, — разобрали все по
полочкам и за полтора года его достроили. Вы вспомните, в 1984 году цирк
закрыли, сказали, что в 1987-м будет новый, я пришел в 2005-м — его еще не
было. Я так понимаю, это была проверка: а сможет? Мне же важно было дать
понять, что все равно работать будем по-другому. Не так, как раньше. Нельзя
такие объекты строить 25 лет — никаких денег не хватит. Следующее — ФОКи. Все
говорят, Шанцев придумал ФОКи, чтобы в истории себя отставить. Да нет! Просто
когда смотрел социальные показатели, увидел следующую картинку:
продолжительность жизни одна из самых низких в стране, смертность одна из самых
высоких, рождаемость одна из самых низких, заболеваемость… Естественная убыль
населения — 39 тысяч человек в год. Это крупный район. Что делать? Решать
проблемы. Прошло семь лет: сегодня естественная убыль составляет 17 тысяч
человек. Как? Родовспоможение перелопатили, лечение сердечно-сосудистых
заболеваний — ведь когда я приехал в
кардиоцентр в 2004 году, легендарнейшая личность Борис Королев рыдал у меня на
плече, говорил: ну сделайте что-нибудь, за 15 лет никто гвоздя не забил, все
восемь хирургических отделений закрыты, диагностику проводить нечем,
оперировать некому, все врачи разъехались — кто в Казани, кто в Сызрани, кто в
Саранске, кто в Пензе, потому что там все есть, а у нас, столице Приволжского
федерального округа, нет ничего. И естественно, что в таких условиях люди
умирают: если два года надо ждать, пока тебе шунтирование сделают, — люди не
доживали. Сейчас ждут максимум два месяца. Потратили два года и приблизительно
1 миллиард рублей — сделали многое:
операционные, оборудование, врачи вернулись. Немцы сказали, мол, не хуже, чем у
нас. И по спорту — ведь можно поправлять здоровье, а можно его не портить. Что
мы имели: по бассейнам — обеспеченность от российского нищенского норматива 4%,
по спортзалам — 17%, плюс самая маленькая в ПФО проходимость населения через
спортивные объекты. Что сказать? Конечно, начали разрабатывать программу. Но в
моем понимании, не очень богатый человек — а мы тогда были очень небогаты со
своими 34 миллиардами на 3,5 миллиона человек, то есть с нищенской бюджетной
обеспеченностью, составлявшей меньше 10 тысяч рублей на человека, — должен все
делать сразу хорошо. Потому что нет ни денег, ни времени переделывать все по
несколько раз. Сначала построить сарай, а потом думать, как его улучшить, —
неправильный подход. Надо было сразу продумать передовой проект. Специалисты
говорят, что таких проектов в России нет ни у одного региона, да и в Европе еще
поискать. В городах такого уровня, как Лысково, Семенов, Кулебаки, нам надо
было зажечь людей сразу, чтобы психология поменялась, чтобы к ним пришло что-то
такое, чтобы атмосфера изменилась, чтобы они поняли, что надо туда идти. Потому
что силой никого даже в нормальные условия не загонишь. Так что все программы,
которые я назвал, формировались на основе анализа региональных проблем.
З.П. Память человеческая ведь очень обманчива. Да,
гигантские проекты, никто не станет спорить — мосты, ФОКи и так далее. А вот
взяли и снесли дом Чеботарева на улице Горького. Интеллигенция обижена, многие
буквально до слез. Как так получилось?
Знаете, хотелось бы повстречаться с
этими обиженными людьми… Дело в том, что города, как и территории, все равно
будут развиваться. Ну, если вы бываете за рубежом, то, наверное, таких домов,
как у нас в центре города, там не видно. А ведь они были все такие в XVIII-XIX
веках. Когда специалисты решают эти
вопросы, они внимательно их изучают. Вы можете мне сказать, в чем
принадлежность к культурно-историческому наследию дома Чеботарева?
Э.Н. Я могу. Это образец уникальной каменной застройки
второй половины XIX-начала XX веков, двухэтажный особняк с тремя фасадами,
какие в Нижнем Новгороде не встречаются более нигде. Цельный, крепкий дом. Я
была среди тех, кто наблюдал, как этот дом рушили. Страшно другое — документов,
разрешающих снос, фактически не было…
Кто вам это сказал? Вот вы кто по
образованию?
Э.Н. Журналист-международник.
Понимаете, любой губернатор, как и
любой мэр, должен в первую очередь уметь слушать специалистов. Когда мы говорим
о памятниках архитектуры, культуры, мы должны говорить о тех постройках,
которые этому статусу соответствуют. До 1999 года этот дом вообще ни в каких
списках не фигурировал, в 1999 году определили, что это дом как бы с признаками
памятника. После этого провели экспертизу, которая показала, что никаких
архитектурных, исторических, архивных документов, подтверждающих
историко-культурную ценность этого дома, нет, что, по сути, лишило возможности
считать его памятником. Это во-первых. Во-вторых, первый владелец дома — купец,
который в контексте истории города никак себя не проявил. Допустим, про
Рукавишниковых, Бугрова, Строганова есть информация о том, что они делали для
города, какой благотворительной деятельностью занимались. О владельце дома №107
известно только, какой была его фамилия, и больше ничего. И то — ее выяснили,
когда проводили экспертизу и узнали, что именно он начал строительство в 1860
году. Дальше — по поводу трех фасадов. Именно таким дом этот построили потому,
что тогда улицы были как стрела —соединялись, и Чеботарев, как это принято,
застроил первую линию. Через три года он пристроил к дому одноэтажную лавку,
еще через 13 лет — второй этаж этой лавки. Потом этот дом купила некто
Филиппова — она надстроила каменный уже этаж. То есть это никакой не
архитектурный стиль — это смешение стилей. И все архитекторы, которые
участвовали в экспертизе, в один голос
заявили, что это не памятник.
Э.Н. Дело в том, что один из пяти нижегородских
федеральных аттестованных экспертов — Алексей Иванович Давыдов — подготовил
экспертизу, подтверждающую, что дом №107 является вновь выявленным памятником
архитектуры. Акт экспертизы был у нас на руках в день сноса, этот документ был
предъявлен всем — и представителям ГУВД, и прорабу «Стройсистемы» Грехову.
Более того, нашумевшее постановление №78, по которому во включении в реестр
вновь выявленных памятников архитектуры было отказано 76 объектам, выпустили на
основании экспертизы, которую проводили неаттестованные эксперты…
Я могу вам представить официальный
документ — последнюю экспертизу по этому дому. Ее закончили в июле — и ее
делали в ООО «Поволжье». Это не нижегородская, а работающая на территории всего
федерального округа организация. Со всеми лицензиями министерства культуры. Эта
экспертиза была второй, ее закончили в июле, и она тоже была отрицательной. Я
могу вам показать этот документ. Дело в том, что когда дом стоит посередине
площади, можно думать о том, что с ним делать, если это памятник, если это не
памятник — думать-то уже ничего. Давай людям жилье, чтобы они выехали, — и
строй то, что нужно для города. Ну не получится же сделать так, что вот улица
Горького у нас четырехполосная, но конкретно в этом месте мы ее сузим до двух
полос. Если бы дом №107 был памятником — одно. Но специалисты сделали
заключение, что он не памятник. Поэтому и было принято такое решение.
Э.Н. Скажите, а какие вы видите способы спасения
регионального архитектурного наследия?
В свое время мы разработали
концепцию памятников культуры и архитектуры — это концепция прошла общественные
слушания и в области, и в Нижнем Новгороде.
Э.Н. Речь о концепции «Этноса»
(научно-исследовательское предприятие. — Прим. ред.), я правильно
понимаю?
Да, именно. Она прошла все, что
положено по закону. В ней предусмотрены 17 вариантов работы с памятниками — в
зависимости от того, что это за памятник, в каком состоянии он находится. Вы же
понимаете, что о доме-памятнике, в котором живут люди — без туалета, ванной, —
можно, конечно, сказать, что он памятник, но надо думать дальше: можно ли
создать такие условия для людей, чтобы там можно было жить, или нельзя. Если
нельзя, людей надо выселить, предоставить им комфортное жилье, и думать, для
чего использовать памятник. Для офиса можно? При условии заключения охранного
договора, чтобы тот, кто это здание под офис возьмет, привел все в соответствие
с описанием — буквально до гвоздя. И внутри, и снаружи. Если этот вариант
задействовать нельзя, можно его сохранить как музейный объект. Тогда нужно
выбрать типовые здания — по архитектуре, назначению, времени постройки, и
где-то сделать так называемый «заповедник». И восстановлена должна быть не
только строительная конструкция, но и утварь, мебель — чтобы люди могли
приходить и видеть, какими были дома. Что мы и сделали на Щелоковском хуторе.
Если нужно сохранить внешний вид, а внутри все переделать, поскольку перекрытия
не всегда могут выдержать нагрузку современной инфраструктуры, тогда идем путем
новодела, когда сохраняется внешний вид — фасады, кровля, — а внутри все
делается по-современному, то есть железобетонные перекрытия, планировки,
сантехника, электрика. Этих вариантов там 17.
Э.Н. А этот разработанный
«Этносом» документ утвержден?
Да, утвержден правительством. Это
действующий документ. Мы за это время уже реставрировали 200 объектов.
Например, усадьба Рукавишниковых. Почему 16 лет никто не думал о его
реставрации? Мы направили на
восстановление 600 миллионов. Теперь все ходят и восторгаются: «Ой, какая
красивая усадьба!» Там теперь краеведческий музей, которого у наших детей не
было 16 лет. У нас там международный саммит проходил. Иностранные гости сказали: «У нас таких нет». А дом Сироткина?
Дом Бугровых? А Шуховская башня? На протяжении 200 лет стена в Кремле была
проломлена, Зачатьевская башня не существовала. В октябре восстановительные
работы будут закончены. Некоторые говорят, мол, зачем вы, Валерий Павлинович,
это делаете, могли бы эти деньги на пенсии потратить или на что-то еще. Ну как
иначе-то? Кремль — одно из чудес света. Его недавно включили в список. В
Барселоне было заседание экспертного совета. К нам приезжал француз,
генеральный секретарь «Столицы мира», вручил диплом. А мы проломленную стену
доделать не можем. Ну, не стали бы мы
это делать, вы бы мне ничего и не сказали: «До вас 200 лет никто этим
проломом не занимался, и сейчас еще семь лет простоит так, и потом еще три года
и более, и уйдете вы с этим проломом на пенсию». Ничего не произойдет. Но мы же
занимаемся этим. Как можно после этого обвинять меня в нелюбви к истории,
архитектуре, культуре? Я не понимаю.
Оригинал этого материала
опубликован в «Новой газете» в Нижнем Новгороде».