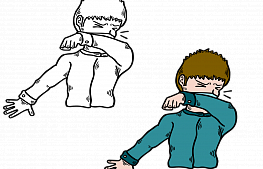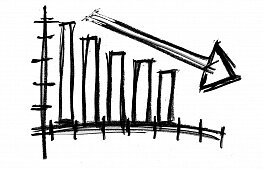







Милитаризм и конкурентоспособность России
Способствует ли милитаризм экономическому развитию страны? В чем секрет советской милитаризации? Является ли российский милитаризм преемником милитаризма советского? Для чего России нужны вооруженные силы? Как соотносятся милитаризм и обороноспособность страны? Помогает или нет милитаризм адаптироваться к рыночной экономике? Эти вопросы стояли на повестке дня заключительного заседания, посвященного проблемам милитаризма. В дискуссии приняли участие Алексей Арбатов, Александр Белкин, Лев Гудков, Владимир Дворкин, Михаил Погорелый, Виталий Шлыков. Вел дискуссию Александр Гольц. Он предложил для обсуждения следующие проблемы: возможности совмещения милитаристских установок в государственном строительстве и ускоренного экономического развития; милитаризм, укрепление обороноспособности России и адаптация населения к условиям современного рыночного общества .
Стенограмма дискуссии:
1. Можно ли совместить милитаристские установки в государственном строительстве (отказ от гражданского контроля над вооруженными силами и военным бюджетом, сохранение мобилизационных мощностей в промышленности, сохранение подобия всеобщей воинской обязанности) и ускоренное экономическое развитие?
Александр ГОЛЬЦ (военный аналитик, заместитель главного редактора журнала «Еженедельный журнал»): «Военно-политическое руководство страны стремится прежде всего поддержать статус великой державы»
Два предыдущих ситуационных анализа были посвящены прошлому и настоящему российского милитаризма. Сегодня мы будем говорить о будущем и о том, как милитаризация сознания, милитаристские стереотипы принятия решений, противоборство с внешним миром и преодоление этого противоборства прежде всего военными средствами оказывают влияние на важнейшие стороны жизни нашего государства.
Первый вопрос, который я предлагаю для обсуждения, звучит так: можно ли совместить милитаристские установки в государственном строительстве и ускоренное экономическое развитие? На предыдущих ситуационных анализах у меня была четкая позиция, которая заключалась в том, что милитаризм представляет собой угрозу общественному, политическому и социальному прогрессу в России. Сегодня у меня нет ясного ответа на поставленный вопрос.
Налицо участие российского военно-политического руководства во всевозможных проектах, которые, на мой взгляд, не имеют прямого отношения к укреплению обороноспособности страны, а связаны прежде всего с желанием укрепить статус великой державы. Об этом свидетельствуют и разговоры о новом загадочном ракетно-ядерном оружии, которым Россия обладает сегодня или будет обладать в скором времени.
Сюда же следует отнести и стремление любыми путями сохранить массовую мобилизационную армию. Руководство Министерства обороны продемонстрировало, как именно оно оправдает отказ президента от своего обещания сократить срок срочной службы до одного года. Глава военного ведомства Сергей Иванов сказал, что он перед президентом отвечает за обещанный перевод на контрактную основу воинских частей. И только в том случае, если данный перевод будет выполнен успешно, с 2008 года можно начинать сокращение срока службы.
При этом совершенно очевидно, что не позже 2006–2007 годов руководители России намерены протащить через Государственную думу поправки, отменяющие отсрочки от призыва. О том, какое влияние подобные решения могут оказать на экономику, уже много говорилось, и очевидно, что это влияние будет негативным.
В то же время есть некий российский феномен: модернизация России всякий раз проходила под лозунгом противостояния внешней угрозе, наращиванию военной мощи. Еще Сталин объяснял необходимость модернизации и индустриализации Советского Союза следующим образом: «Мы отстали от передовых стран на пятьдесят–сто лет, мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». На протяжении веков Россия не знала другого способа концентрации государственных ресурсов в целях модернизации, кроме военной мобилизации. Более того, существует мнение, что, направляя возможности экономики, те лишние деньги, которые образовались в стране, на реализацию военных проектов высокой технологии, Россия сумеет перепрыгнуть через ту пропасть, которая отделяет ее от развитых экономических стран. На этом я просил бы вас остановиться подробнее.
Александр БЕЛКИН (заместитель исполнительного директора Совета по внешней и оборонной политике): «Руководство России делает ставку на военно-промышленный, сырьевой и энергетический комплексы»
Важно не просто зафиксировать проявления милитаризма в государственной и общественной жизни современной России, но определить направление эволюции этого социально-политического феномена. С моей точки зрения, в той же мере, в какой российская армия, о создании которой было объявлено еще в 1992 году, умирает, медленно разлагается, остается нереформированной, советской армией, советский милитаризм во всех его государственных, общественных и идеологических проявлениях тоже унаследован Россией от СССР. Все его «болячки» загнаны гайдаровскими недореформами «под кожу» и продолжают отравлять общественную атмосферу.
Совершенно ясно, что мы имеем дело с остаточным явлением. Советский милитаризм был гипертрофированным, тотальным, он представлял собой интересный предмет для исследования. Нынешней России он достался уже в полуразвалившемся состоянии, и проблема заключается в том, что, если не разобрать эти руины, страна под ними погибнет.
Я полностью согласен с тем, что сказал в своем вступительном слове Александр Гольц. Скажем, Петр I вынужден был избрать методом модернизации страны военный механизм, поскольку шла война со Швецией. Вместе с тем в условиях реальной и активной враждебности к РСФСР других стран после Гражданской войны сложилась ситуация повышенной военной опасности. Сегодня военной опасности для России нет. Но даже в тех условиях было принято решение о десятикратном сокращении вооруженных сил, а сейчас мы слышим неаргументированные утверждения, что стране нужна миллионная армия.
Беда в том, что если российский милитаризм и существует, то в уродливой, неполноценной форме. И поэтому нет никакой реанимации милитаризма, а все разговоры на высшем политическом уровне о ракетно-ядерном оружии вызывают только грустную улыбку у серьезных исследователей. Это жесты, это размахивание пионерскими флажками и не более того.
На мой взгляд, нынешнее политическое руководство России основную ставку сделало отнюдь не на военный, оборонный сектор и не на вооруженные силы, а на военно-промышленный, сырьевой и энергетический комплексы. Мы должны признать, что сегодня военные готовы выйти на улицу не потому, что им уделяется особое внимание. Если бы в стране был настоящий милитаризм, то с главнокомандующего ВМФ России Владимира Куроедова сняли бы голову сразу после трагедии с «Курском», не простили бы военным ни одного серьезного поражения в Чечне. Ничего подобного не происходит. Армию как продолжали держать на задворках, так и держат.
Если мы перестанем говорить о том, что в России проводится сознательная политика милитаризации, и согласимся с тем, что перед страной стоит проблема рецидива советского милитаризма, то наша дискуссия примет иное, более реалистичное направление. Мы избежим обвинительного тона в отношении власти, поскольку наш с вами потенциал в ведении диалога по принципу «дурак, сам дурак» гораздо меньше, чем у нее. Поэтому соревноваться с властью в том, кто кому больше гадостей скажет нерационально. Более того, при всем нашем критическом отношении к власти нужно искать точки соприкосновения с нею, точки совпадения интересов гражданского общества и власти, которая хочет, с одной стороны, свою власть сохранить, а с другой – должна защищать интересы гражданского общества.
Отчасти можно согласиться с тезисом об отказе от гражданского контроля. Я говорю «отчасти», потому что формально гражданский контроль осуществляют президент как верховный главнокомандующий – гражданское лицо, и министр обороны – тоже гражданское лицо. Можно спорить, существует ли этот контроль в большей или меньшей степени, чем в советское время. Факт в том, что он есть. Точно так же контролируется и военный бюджет – министр обороны взял это дело в свои руки. Хотя я не уверен, что мобилизационные мощности сохраняются, а не умирают вместе со всей военной машиной.
Что касается воинской обязанности, то эксперты Совета по внешней и оборонной политике неоднократно указывали в своих докладах, что это вопрос дискуссионный и уж точно второстепенный по сравнению с вопросами соотношения экономики и обороны. Все эти процессы, на самом деле, являются признаками не роста милитаризма, а его упадка и разложения.
Необходимо сказать, что как только в России лет через пятнадцать–двадцать подойдут к концу запасы нефти и газа, угрозы появятся. И тогда понадобятся нормальные дееспособные вооруженные силы. В нынешней ситуации страна не в состоянии создать вооруженные силы, необходимые для конкретной защиты собственных интересов. Поэтому обязательно нужно подвергнуть критике российский уродливый, умирающий милитаризм, но нужно и еще жестче критиковать власть за недостаточное внимание к действительным проблемам вооруженных сил и всего оборонного комплекса.
Лев ГУДКОВ (ведущий научный сотрудник Аналитической службы «Левада-центр»): «Сохранение нынешней модели массовой мобилизационной армии – это сохранение старой государственно-политической системы»
Как социолог, я могу отслеживать характер влияния той или иной модели армии на общество. Эффективная, т. е. конкурентная и стабильная экономика может существовать только при определенной институциональной системе, ограничивающей возможности вмешательства государства в экономические процессы, преуменьшающие его роль как самостоятельного действующего субъекта или корпорации. Собственно, это означает лишь одно: основные усилия государства направлены на то, чтобы обеспечивать условия для проявления свободной индивидуальной инициативы, иначе говоря, – на сохранение и защиту автономии рыночной экономики. Как оно будет это делать? Именно ответы на этот вопрос и будут отличать одну модель экономики от другой.
Но в любом случае, перераспределительная роль государства не должна мотивироваться и определяться интересами и целями самого государства или чиновничества. Только при этих условиях власти не смогут «задавить» производство налогами или репрессивными законами, только тогда общество способно принудить государство поддерживать в разумных пределах инвестиции в социальную сферу (образование, социальное обеспечение, здравоохранение, повышение качества жизни населения и т. п.).
Когда же государство заставляет общество работать на себя, подчиняя хозяйственные отношения и производственные процессы своим целям, в том числе и военным (самодостаточным в том случае, если военная организация общества или подготовка к войне становятся самоценной деятельностью властей; или вполне прагматическим, если речь идет о планировании конкретных действий), экономика становится неконкурентной и дисбалансированной. Никакой другой принципиальной модели развития не существует.
В некоторых случаях, требующих специального обсуждения, можно говорить о влиянии армии и милитаризма на модернизационные процессы и ускоренное развитие страны, в первую очередь – промышленности и системы образования. Есть несколько исторических примеров такого типа форсированной милитаристской индустриализации и поверхностной модернизации, проводимой властями, часто в принудительном порядке, с большими затратами. В этом ряду прежде всего следует назвать Российскую империю, первую страну догоняющей модернизации, и императорскую Японию.
Царская Россия создала динамичную, но слабоконкурентную капиталистическую экономику, промышленный военный комплекс, сконцентрированный в немногих крупных городах, ставших своего рода анклавами модернизации в стране, с очень традиционным по своему укладу и образу жизни населением, с архаичными государственными и общественными институтами. Ограниченность этого типа индустриальной модернизации обнаружилась в ходе Первой мировой войны, первой по-настоящему промышленной войны, когда исход военных действий зависел от величины промышленного потенциала государства. Несмотря на большие людские ресурсы и готовность использовать их без особой тревоги по поводу величины потерь, Россия войны не выдержала. Катастрофа 1917 года стала логическим следствием не только Первой мировой войны, но и всей государственной военно-патримониальной системы.
Советская система лишь продолжила эти традиции, многократно усилив особенности централизованной империи. Характер военно-промышленной модернизации, ориентированной на резкое ускорение развития, подготовку к войне, идеологическую и миссионерскую экспансию, породил совершенно другой вариант мощной современной промышленности, высочайшего уровня производства и технологии. Однако подобный тип экстенсивного развития мог осуществляться исторически лишь очень короткое время и только при условии режима террора и массовых репрессий, искусственной бедности населения, удержания человеческого потенциала на крайне низком уровне, едва обеспечивавшего потребности в кадрах управления, почти полной изоляции от внешнего мира.
Можно сказать, что такая экономика опиралась на отношение к населению как неисчерпаемому сырьевому ресурсу. Она могла какое-то время существовать за счет хищнической эксплуатации ресурсов, включая людские, но она не могла даже воспроизводиться, не говоря уже о том, чтобы развиваться, быть новационной и тем более конкурентной. Иллюзия мощи и высоких достижений советского времени в науке, технологиях, военной промышленности, иллюзия, которая не умирает и сегодня, основана на том, что в момент «Х» советская армия может уничтожить кого угодно. «Конкурентоспособность» мыслилась только в одной плоскости: способность уничтожить противника, а не продуктивность, повышение качества и продолжительности жизни, включая ее безопасность.
Другой вариант быстрого развития демонстрируют военно-авторитарные режимы «догоняющей модернизации» – от Японии до азиатских «драконов»: здесь ставка делалась не на экстенсивное развитие с опорой на сырьевые ресурсы, а на инвестиции в человеческий капитал, прежде всего в образование, в создание условий, при которых было бы возможным эффективное заимствование технологий. Даже если у власти стояли военные, то это были военные другого рода, ориентированные на модель вестернизации страны, в том числе и на иную армию.
Как влияет армия на экономику? При другой организации армии и общества, такой как, например, в США, армия может давать мощнейший импульс технологическому развитию. Но это возможно только при условии, что существует связь армии, военного комплекса и промышленности, общества через рынок. Военное производство – это не особая закрытая промышленность, подчиняющая себе все другие секторы экономики, а те же компании и фирмы, производящие и гражданскую продукцию на таких же условиях, что и прочие. Другими словами, военная промышленность не отделена от других секторов экономики, общество в лице представительных органов власти, а не армия, решает, что и сколько нужно для армии.
При этом концентрация финансов, интеллектуальных, научных и организационных средств и ресурсов, обеспечиваемая военными ведомствами, бюджетом вооруженных сил для решения узкотехнологических или оборонных задач, может оказаться механизмом, стимулирующим инновации для гражданского применения, для экономики в целом. Такая цепочка позволяет быстро адаптировать все новое, что создается наукой и технологией, для военных целей и сравнительно недорого использовать для потребительского рынка. В российских условиях, при автаркии военного сектора и военного производства, режима сверхбдительности, автономии армии, закрытости оборонного ведомства, сколько ни закачивай туда, выход для гражданского сектора будет минимальный.
Попытки же адаптировать военные разработки и в советское, и в постсоветское время приводили лишь к очередной серии шпионских процессов, сохранению власти спецслужб и полной независимости военных от общества. Именно гипертрофия армии и ВПК истощила гражданский сектор и привела к развалу советской системы. Поэтому, повторяю, стремление сохранить нынешнюю модель массовой мобилизационной армии – это сохранение старой государственно-политической системы в целом.
Я согласен с Александром Белкиным: как национальная мифология, сегодняшний российский милитаризм – идеология умирающая. Общественный эффект от милитаристской риторики, ее мобилизационный потенциал в нынешней России довольно слабы. Ни одному из действующих российских политиков, включая Путина, не удастся найти необходимую поддержку политики силовой экспансии, направленной на другие страны или внешние территории. Общественное мнение ясно сознает – сегодня у России нет реальных военных противников, нет конкретных врагов.
Конечно, инерция блокового противостояния, антизападные настроения, подозрительное отношение к США, фантомы прежнего соперничества сохраняются, но большинство населения понимает, что Россия – уже не великая держава, она проиграла «холодную войну», отстав от Запада навсегда. Основная масса россиян отдает себе отчет в том, что сегодня военными средствами нельзя достигнуть того, что соответствовало бы национальным интересам страны. С помощью ракетно-ядерного оружия можно лишь поддерживать состояние достаточного оборонного равновесия. Более того, в отличие от генералов для большинства населения России стало несомненным представление, что в нынешних условиях сама война как способ решения государственных, социальных или политических проблем – неадекватное и ничем не оправданное средство.
Поэтому население в целом весьма скептически воспринимает и всю пропагандистскую кампанию борьбы с международным терроризмом, разыгранную администрацией президента, заявления об угрозе национальной безопасности, перспективе распада страны, о том, что страна находится в состоянии войны с этим невидимым врагом – все те декларации о необходимости введения режима строгой бдительности, «временного» ограничения гражданских свобод, усиления силовых структур, увеличения финансирования армии и спецслужб и пр. Как показывают исследования, сколько-нибудь значительного отклика в обществе на подобные заявления властей не последовало.
Функции милитаристских стереотипов не сводятся только к мобилизации общества на поддержку экспансионистской политики или политики силового шантажа. Милитаристская идеология является традиционной составляющей идеологии российской власти, ее образа в глазах населения, ее способа самолегитимации. Милитаристское, т. е. сверхценностное, отношение к армии может задавать модель государства (или влиять на выбор этой модели). Здесь важны не конкретные военные цели или определение потенциального противника, а сам принцип авторитарного армейского устройства общества: командная вертикальная структура, концентрация контроля над обществом, подбор вышестоящими чиновниками «удобных» для себя кадров как единственно возможная и принимаемая или оправдываемая населением система социальной организации.
Другими словами, бесконтрольность государственной власти, ее безграничные возможности распоряжаться ресурсами, ее право на произвол означают, что население по-прежнему остается всего лишь сырьем, лишенным собственных интересов, безгласным ресурсом для власти. И здесь как раз легенда о власти, государстве как корпорации, защищающей общество, аккумулирующей в себе все средства распоряжения, противостоящей угрожающему Западу, является чрезвычайно важной. Конечно, это уже не реальная политика противостояния, но в качестве символического момента она будет еще очень долго сохранять свое значение. Вот почему любые попытки реформировать армию вызывают такое сопротивление.
Я вижу причину неудач именно в этом, а не в бюрократических интригах и шантаже генералитета, стерилизующего любой шаг на пути реформирования вооруженных сил. Если бы высшее политическое руководство страны обладало каким-то иным видением, иным пониманием природы и функций государства, было способно как-то иначе представлять социальные процессы, кроме как рутинные образы существования «великой державы» и ее атрибутов, руководство Министерства обороны и Генштаб занимались бы совершенно другими делами.
Армия в том виде, в каком она сегодня сохраняется, оказывает угнетающее воздействие на общество и на экономику. Это модель закрытого, очень консервативного, если не сказать архаического, социального института. И самое интересное, что такое «родство» армии и власти не обсуждается в обществе, на эту тему наложено табу, ее стараются не касаться ни власти, ни элита, ни тем более обыватель. Публично анализировать характер и функции российской армии означает подвергнуть десакрализации саму природу российской власти. Изменить характер и роль российской армии значит изменить природу российской власти, авторитарной, закрытой, бесконтрольной, неконкурентной, а поэтому – хронически некомпетентной.
Сегодня много говорят о том, что есть какие-то формальные условия гражданского контроля, гражданские министры, но подобную ситуацию мы имеем и в деле «ЮКОСа»: с формальной точки зрения все делается по суду, в рамках права, однако большая часть населения считает суть дела чистым произволом, и это все прекрасно понимают.
Такая армия, какой сегодня пытаются быть российские вооруженные силы, постоянно требуя средств на свое поддержание и развитие, является наследством советской распределительной системы, непрозрачной, неконтролируемой модели государства. Выдвигая собственные приоритеты в государственной политике при распределении ресурсов, она на свой вкус оценивает любые социально-политические отношения, выворачивая экономику на собственный лад, ставя все, происходящее в политике и обществе, в зависимость от собственных нужд и интересов, точнее от представлений и интересов высшего командования. Тем самым армия оказывает парализующее воздействие на все перспективные в социальном плане группы и сферы жизни (молодежь, систему образования, предпринимательство, повышение уровня жизни населения, экономическое развитие страны в целом).
Подобная модель армии сегодня предопределяет мышление и политиков и населения, особенно – его самой консервативной и зависимой от государства части. Утверждение приоритета военных и спецслужб (такой системы государственной безопасности, такой системы власти, таких отношений экономики и власти, такой системы образования) не дает возможности обсуждать другие подходы к политике, военный бюджет, ориентиры развития страны. Постоянно поднимается вопрос о призыве в армию студентов. Ясно, чему отдадут предпочтение управляемые депутаты: закону об образовании или закону о воинской повинности. В сознании наших государственников приоритет будет отдан военным. И это при том что сама военная доктрина абсолютно неадекватна нынешнему времени. Она остается почти неизменной с советских времен и практически не пересматривается.
Пока сохраняется такая модель армии, ни о какой политике вестернизации России, реального сближения с западными странами, усвоения их государственного опыта, социально-политической организации, отношений экономики и власти не будет и речи. А значит – не будет и эффективной экономики, не будет в ближайшие десятилетия и роста благосостояния страны. Пример консервации позорной бедности населения при растущих ценах на нефть демонстрирует это со всей очевидностью.
Подобная расстановка приоритетов в государственной политике, сохранение милитаристской модели армии и власти, распределение государственных средств отражаются и на подборе кадров в структуры государственной власти, на интеллектуальной атмосфере в обществе и в верхнем эшелоне власти. Это означает, что не будут поставлены новые, реальные, соответствующие сегодняшним вызовам проблемы. Нынешние кадры просто не допустят саму постановку таких вопросов, сделают невозможным их обсуждение и понимание обществом. Консервируя социальную организацию современной российской армии, ее обеспечение, структуру и проблематику военного бюджета, мы лишаем себя возможности обсуждать другие вариантов устройства армии, отношения общества и вооруженных сил. А это значит, что прежняя бюрократическая система будет медленно разлагаться, но надолго сохранит за собой свою роль.
Следствием этого оказывается состояние полнейшей безучастности, отчужденности и равнодушия самого общества, которое не контролирует данные процессы. Опросы общественного мнения показывают, что все знают о бедственном положении в армии, но ничего не могут изменить. Большинство опрошенных готовы даже одобрить увеличение ассигнований на улучшение материального положения военных. В очень большой степени такая готовность возникает из представлений о том, что государственная казна безмерна, и только лишь злая воля каких-то чиновников или политиков почему-то не позволяет оттуда брать столько средств, сколько нужно, чтобы обеспечивать офицерский состав или кормить рядовых. Население никоим образом не включено в саму дискуссию о затратах, приоритетах и пр.
Именно потому, что сегодня нет реальной внешней угрозы, нет достаточных оснований для сохранения мобилизационной модели армии, будет продолжаться разложение и армии и общества, будут расти равнодушие и цинизм. Я думаю, что связь армии и природы нынешней политической системы все-таки осознается, но мало кто готов ее обсуждать в условиях путинского режима. Дожить бы до следующих выборов, как-то продержаться… Неслучайно тон в обсуждении военных проблем все чаще и чаще задают люди с сознанием временщиков. Они готовы решить на данный момент собственные карьерные, финансовые и прочие проблемы, а что будет дальше, их не интересует. В таком состоянии пребывают сегодня и общество и идеологическая верхушка. Это состояние сохранится до тех пор, пока будет сохраняться старая модель армии.
Михаил ПОГОРЕЛЫЙ (директор Центра журналистики войны и мира): «Милитаризм следует рассматривать как избыточность усилий государства в области обороноспособности»
Милитаристские установки в госстроительстве – это, на мой взгляд, ускоритель, который дает мощный толчок развитию экономики страны. И тому в истории немало примеров. Но в России существует своеобразная демократия, как признал президент, а следовательно, и своеобразный милитаризм – милитаризм, который царит скорее в головах людей, чем на полях боевой подготовки, на предприятиях военно-промышленного комплекса, в кабинетах власти. Это скорее битье в литавры, с тем чтобы под их грохот расхищать или реканализировать средства государственного бюджета по иным направлениям.
Милитаризм следует рассматривать как избыточность усилий государства в области обороноспособности, укрепления ее путем военного строительства. Избыточность присутствует в доле военных расходов в российском бюджете, если сравнить их с социальными нуждами: это и огромный процентный рост за последние пять лет (с 20% до практически трети) и одновременный рост их абсолютных величин.
Приводит ли это к чему-либо в практической плоскости или это только отвлекает внимание общественности от процесса осваивания бюджетных средств? Рассмотрим, например, проблему боевой подготовки. Как недавно нас информировал начальник береговых войск Военно-морского флота России Павел Шилов, в стране устраиваются шоу масштаба «рота–батальон», на которые с удовольствием ездят министр обороны, другие полководцы, вплоть до верховного главнокомандующего. Сюда же следует отнести и традиционный пуск межконтинентальных баллистических ракет – символический, также скорее относящийся к шоу, чем к реальной боевой подготовке, и к тому же не всегда успешный.
А чем это заканчивается на уровне развития военно-промышленного комплекса? Совершенно справедливо здесь было сказано о том, что в Германии, Японии, США, Франции развитие военного сектора экономики, как паровоз, тащит за собой развитие гражданского сектора. В России же все наоборот.
Самый яркий пример, который мне вспоминается, – рассказ космонавта Магомеда Толбоева о программе «Буран», замороженной и умершей, к сожалению. Более 600 высоких технологий, которые актуальны и сегодня, спустя 20 лет, были вложены в эту программу, но ни одна из них не была воплощена в гражданский сектор экономики. Почему? Супервысокая степень секретности. Здесь тоже проявилась та самая избыточность усилий государства.
Керим Керимов докладывал, что даже ему, как председателю Государственной комиссии пилотируемых полетов, принимавшему космические «изделия», далеко не во всех вопросах был гарантирован допуск, он не мог даже ознакомиться со всем, с чем приходилось иметь дело. И многое благополучно скончалось в сейфах КБ, институтов и производственных предприятий, которые могли бы в принципе зарабатывать на этом деньги.
Этот избыточный милитаризм, гипертрофированный, неправильный, фактически разрывающий связь между военной машиной государства и общегражданской частью общества, и приводит к тем печальным результатам, которые мы видим сегодня.
Нынешняя модель российского милитаризма не является ускорителем. Она – камень, который привязан к ногам российской промышленности и который тянет ее на дно, с одной стороны, не давая ей выйти на открытый рынок, а с другой – не обеспечивая ее в полном объеме гарантированным госзаказом.
Министр обороны озвучил объем госзаказа на 2005 год: 17 танков Т-90. Что значат даже для одного предприятия, такого как «Уралвагонзавод», 17 единиц? Или «серия» из четырех баллистических ракет, которые государство закупит для вооруженных сил?
Полковник Александр Соломонов в январе 2004 года выступал в Думе. Он в отличие от меня является экспертом в данном вопросе, и когда он говорит, что при производстве такого количества ракет кооперация просто умирает, я не имею оснований ему не доверять.
Подобная картина, когда наш извращенный милитаризм тянет на дно экономику, проявляется и в том секторе, который государственные деятели с гордостью преподносят как вклад в развитие экономики России. Я имею в виду экспорт вооружения. Муссируется мысль, что если вооруженные силы не имеют средств для закупки вооружения, значит, нужно продавать его за рубеж. Но это такая же разновидность наркотика, как нефть и другие сырьевые ресурсы. Этот наркотик привязывает нас к морально устаревающему производству, завязывает на технологии, которые преподносятся обычно как пример самых высоких технологий – Су, МиГи.
Уже сегодня – это технологии тридцатилетней давности. Продавая их, мы принуждаем предприятия обеспечивать их постпродажное гарантийное обслуживание еще в течение деясти–двадцати лет, иначе это вооружение никто не купит. Чтобы предприятия ОПК были конкурентоспособны сегодня, они должны лишить себя конкурентоспособности завтра и послезавтра. Получается вектор, ведущий скорее назад и вниз, чем вперед и вверх.
Обсуждая вопрос о контроле гражданского общества над военными расходами, мы возвращаемся к вопросу о милитаристском «индустриальном грохоте», который существует сегодня больше на уровне идеологическом, нежели экономическом. И он как раз способствует маскировке каналов, по которым перераспределяются огромные деньги из государственного бюджета, так и не доходящие до вооруженных сил.
Безусловно, милитаристские установки в том виде, как они существуют сегодня в России, господствуют в ее органах власти и лежат в основе принятия тех или иных решений, не являются условием экономического развития страны, которое обеспечило бы России возможность через десять—пятнадцать лет занять достойное место в строю экономически развитых государств. И из «второго мира» своей внутренней и внешней политикой мы сами себя выталкиваем в «третий мир», со всеми вытекающими отсюда последствиями на уровнях экономическом, социальном, культурном и политическом, с которыми нам придется столкнуться через пятнадцать–двадцать лет.
Виталий ШЛЫКОВ (военный эксперт, член Совета по внешней и оборонной политике): «Вкладывать деньги в военное производство без его радикальной перестройки бессмысленно»
Мой взгляд на обсуждаемые сегодня вопросы достаточно парадоксальный. Мне кажется, я обнаружил путем тяжкого труда – своего и коллег, в основном западных исследователей, – ключ к секрету советской милитаризации. Ее особенность заключалась не в развитии военно-промышленного комплекса, а в чудовищном, гипертрофированном развитии сырьевого сектора экономики. Этот сектор по ресурсоемкости был намного больше, чем то, что мы называем военно-промышленным комплексом. Поэтому я утверждаю, что в России было два военно-промышленных комплекса: № 1, который мы называем ВПК, и № 2 – сектор сырьевых и базовых отраслей. В этом суть советской модели милитаризма, то, что ее радикально отличает от других милитаристских мобилизационных моделей: американской, английской, немецкой и др.
Непонимание этого загоняет нас в наших спорах в тупик, в то время как выход, на мой взгляд, достаточно прост. Тупик возникает из-за отсутствия информации. При наличии необходимой информации этот вопрос сравнительно прост для понимания. Я обычно объясняю его на примере производства танков, опираясь на абсолютно достоверную информацию Госплана 1930-х годов вплоть до 1941 года.
Советский Союз в 1930-е годы производил танков больше, чем все страны мира, вместе взятые, – две-три тысячи единиц в год. Но секрет вот в чем. Производство – две-три тысячи единиц, а мобилизационные мощности на вторую пятилетку составляли 70 тысяч танков плюс 20 тысяч танкеток. И ресурсы, направляемые на развитие мобилизационных мощностей, были намного больше, чем те, которые шли на развитие собственно военных отраслей. Вся экономика тогда была построена сугубо на базе межотраслевого баланса.
Почему Россия выиграла войну? Потому что российская мобилизационная система оказалась намного эффективнее немецкой. Россия восполнила чудовищные потери в технике за счет мобилизационных мощностей очень быстро и завалила немцев танками, самолетами, артиллерией, боеприпасами.
Регулярная армия в начале войны была потеряна, и спасло страну только то, что уже в ходе войны удалось создать новую армию и заново вооружить ее. Ресурсы на выпуск 70 тысяч танков были предусмотрены Госпланом. Но в мирное время такие ресурсы не требовались для военного производства, поэтому они перекачивались в гражданский сектор экономики для поддержания его сбалансированности. Практически Сталин вел к тому (если бы он прожил еще лет пять–восемь), что все в стране было бы бесплатно, на нижайшем уровне, конечно, но бесплатно – жилье, транспорт и т. д.
Сырьевые излишки девать было просто некуда. И если бы эта модель сохранилась, то скорее всего в следующей войне Россия победила бы США, потому что они в мирное время такого типа экономику поддерживать не могут, иначе это будет уже не капиталистическая экономика. Это экономика тотального, но рационального направления всех ресурсов на войну.
Где была допущена самая большая ошибка реформаторов начала 1990-х годов, последствия которой страна до сих пор преодолеть не может? Я приведу фразу Егора Гайдара, сказанную им в декабре 1996 года: «Когда я слышу, что Россия превращается в сырьевой придаток Запада, мне становится смешно. Достаточно посмотреть на структуру советского экспорта, чтобы понять, что в этот придаток мы превратились уже очень давно». Что он имел в виду, говоря «очень давно»?
До середины 1960-х годов Россия ничего, кроме золота и леса, не экспортировала, на вырученные средства поддерживалась разведка, закупка технологий и т. д. Советская экономика была замкнутая, сугубо автаркичная и сбалансированная. Баланс был нарушен, когда Хрущев решил закупить зерно на Западе. А когда кончилось золото, предназначенное на закупку зерна, стали продавать нефть. Но она тоже была заложена в межотраслевом балансе, и ее нельзя было оттуда выводить без его нарушения.
Отсюда инфляция, разбалансировка цен и т. д. До этого цены в стране были чрезвычайно стабильные, и внутренняя валюта была тоже вполне стабильной. Американская модель времен Второй мировой войны была заимствована у Советского Союза, им просто хватило ума в послевоенное время от нее отказаться.
Я люблю иллюстрировать методы работы советской экономики и причины ее краха на примере алюминия. В Советском Союзе выплавлялось 4,5 млн т алюминия, но потребление его было гораздо меньше. 10–11% проката шло на военное производство, остальное, кроме алюминиевых ложек и тарелок, неизвестно куда девалось. То же самое происходило со сталью. Это было наследие старой мобилизационной системы: все излишние мощности поддерживались исключительно на случай войны.
Я участвовал во всех этих генштабовских разработках мобилизационного развертывания промышленности. В них закладывались три–шесть месяцев для выхода промышленности на пик производства, например, вместо тысячи самолетов нужно было производить 30 тысяч и т. д. А для этого все должно находиться в «теплом» состоянии. Мобилизационные запасы были гигантские, но главный запас был все-таки в мощностях. И вот пришел 1991 год… Я считаю, что советская экономика рухнула не из-за того, что в стране было излишнее военное производство – от 15–17% доли от ВВП экономика, да еще такая, как в нашей стране, не может рухнуть.
Американцы в годы Второй мировой войны тратили 45% ВВП на военные цели и от этого стали только богаче. Они двадцать лет потом жили за счет тех капиталовложений, которые сделали в технологии в годы войны. Их процветание было заложено именно тогда. ЦРУ утверждало, что доля военного производства СССР составляла 15%, военная разведка Пентагона говорила, что 25%. На самом деле, она составляла 100%, потому что из советской экономики невозможно было что-то выделить. Изначально это было уникальное явление, законченное и сбалансированное. Но как только становятся заметны первые признаки разбалансировки, такая экономика не выживает.
Кризис начался не из-за того, что СССР стал чьим-то сырьевым придатком. До 1965 года из страны сырье не вывозили. Советский Союз рухнул от перепроизводства сырьевых товаров. Это был типичный случай 1929 года – кризис перепроизводства. Как капитализм вышел из того кризиса? Половина мощностей была уничтожена. Сжигали мешки с кофе, сокращали посевы зерна, и экономика постепенно начала подниматься, пока не достигла баланса на некотором приемлемом уровне.
Экспорт, начавшийся в 1991 году, временно спас российскую экономику, потому что все излишки хлынули на западные рынки, ибо не стал никто искать возможности использовать их внутри страны. Можно было, как в советские времена, направить их на повышение жизненного уровня, на конверсию ВПК, но взгляды на эти вопросы тогда были другие.
В экономической области мы сегодня пожинаем плоды тотального милитаризма. В стране существовала структурная милитаризация экономики, которая возможна при нулевых военных расходах. Она не заложена в доле военных расходов в бюджете, ее нельзя высчитать по доле ВНП, она структурная. Нужно менять и демилитаризовать всю структуру, иначе существует опасность сохранения старой системы. Сегодня структурная милитаризация в России намного выше, чем была в советские времена. Я вижу ее в гипертрофированном развитии сырьевых отраслей, цель которого – поддержание мобилизационных возможностей.
Но смысл этого стал другим. И здесь мы переходим к новой форме милитаризма, более опасного для общества, – милитаризма, построенного на превращении России (а это, похоже, любимая идея нашего президента) в энергетическую супердержаву. В этих условиях армия нужна только для того, чтобы поддержать роль сырьевой супердержавы. Именно поэтому проблемы российского ВПК никого не волнуют. Щедро выделяются деньги на военные нужды, чтобы успокоить армию, которая уже пятнадцать лет не получает нового оружия. Деньги эти уйдут в песок. Российская экономика не сможет увеличить производство.
США через это прошли, когда с приходом к власти Рональда Рейгана после десятилетнего спада в закупках оружия пытались путем накачки денег увеличить военное производство. Ничего у них не вышло. Через восемь лет они поняли ошибочность этого пути и решили подойти к вопросу своего ВПК по-другому. Вкладывать деньги в военное производство, если его структурно не менять и радикально не перестраивать, бессмысленно. Если не верите мне, послушайте американских коллег, у которых все это расписано, они уже сделали выводы. Необходима деспециализация военной промышленности. Американцы поняли, что специализированная военная промышленность не отвечает потребностям нынешнего времени, поэтому она должна быть интегрирована полностью с гражданской промышленностью, и между ними не должно быть никаких границ.
Разговаривать о российском ВПК нелепо, потому что никакого ВПК в стране нет. Есть горстка предприятий, которые выживают кто как может: за счет близких контактов с президентом и его окружением, за счет экспорта и т. д. Без постановки вопроса о деспециализации положение так называемого оборонно-промышленного комплекса безнадежно. Поэтому смешна позиция Сергея Иванова, который намерен выделять деньги только на закупку военной техники, предоставив финансирование разработок нового оружия самим предприятиям за счет собственных прибылей. При такой политике армия скоро останется вообще без нового оружия.
Если не найти противодействия курсу на превращение России в сырьевую супердержаву, то она превратится в отсталое полицейское государство, где не будет никакого милитаризма в том понимании, какое мы сейчас обсуждаем. Это будет нечто другое и гораздо более опасное.
Единственными нашими союзниками здесь, как это ни парадоксально, являются только армия и остатки технологического комплекса. Оборонный комплекс, который был создан чудовищной ценой, является самой большой ценностью, которую Россия получила в наследство от Советского Союза. Обошлась она с ним безобразно. Для сравнения – собственность министерства обороны США, по их оценке, к 1988 году составляла больше двух триллионов долларов, но она не была конвертируема в немедленные доходы.
ВПК представлял собой собственность и капитал и в России: в технологических областях, в образовании, в медицине. Отбросив это, российская власть схватила те деньги, которые лежали прямо в столе, т. е. сырье, и решила их тратить. Сегодня уже приходит понимание того, что если это сырье некому будет защищать, его просто отнимут. Определенные мысли по поводу того, как его защитить, у российского руководства неизбежно должны появиться. Можно защитить его ракетно-ядерными системами, но это не сработает. Есть много других средств для того, чтобы это сырье захватить.
Александр ГОЛЬЦ:
Половина из 187 млрд рублей, заложенных в бюджет, уходит на ракетно-космические ядерные исследования. Почему эти уникальные технологии не перетекают в гражданский сектор и не становятся мотором экономики?
Владимир ДВОРКИН (генерал-майор в отставке, старший советник ПИР-Центра): «История показывает, что милитаризм и конкурентоспособность прекрасно совмещаются»
В самом вопросе уже заложена определенная историческая погрешность. Но прежде я вернусь к предыдущему выступлению. В Советском Союзе осуществлялось не только массовое производство сырья. В стране выпускалось в пять-шесть раз больше тракторов, чем в США. Почему? Ведь это было неэффективно? Да потому что каждый из этих тракторов работал примерно сутки или меньше, запчастей не было, но металл расходовался.
Что касается деспециализации, то ее пытались внедрить уже в годы перестройки. И в Советском Союзе военные фирмы производили автоматы для выпуска сосисок, молочные аппараты и детские коляски. Речь идет о крайней неэффективности народного хозяйства. Средства, затраченные на сельское хозяйство, на военно-промышленный комплекс, уходили в песок, не работали. В этом одна из основных причин краха советской экономики.
Теперь о связи милитаризма и конкурентоспособности. Напомню, что конкурентоспособность складывается из четырех последовательных звеньев. Это – конкурентоспособность непосредственно продукции, фирмы, отрасли и затем уже конкурентоспособность страны. Конкурентоспособность определяется таким критерием, как эффективность/стоимость. Есть и другие определения, например: если у предприятия есть прибыль, то оно конкурентоспособно. В последние годы возникли такие неценовые факторы, как инновационный показатель, экологический критерий и ряд других, которые также определяют конкурентоспособность.
Российская металлургическая отрасль конкурентоспособна на мировом рынке, но только благодаря тому, что все сконцентрировано в одном месте – и сырье, и производство, и условия транспортировки. К России близка, особенно на рынке Юго-Восточной Азии, Япония, у которой ничего нет, но она хорошо знает рынок. И в области металлургической промышленности и производства металлургической продукции Япония постепенно опережает Россию.
Можно ли совместить милитаристские установки и конкурентоспособность? История уже показала, что они прекрасно совмещаются, и примером этого является не Советский Союз, а Германия. За короткое время в условиях милитаризации экономики она достигла такого технологического прорыва, который был немыслим ни в США, ни в других странах Европы. После Второй мировой войны начался дележ трофеев и раздача призов странам-победительницам. Австралия получила несколько эшелонов технической документации по химии. Когда австралийцы разобрались с этой документацией, то сказали, что, если бы освоили хотя бы десятую ее часть, стали бы самой развитой химической страной в мире.
То, чего немцы достигли в области ракетной техники, выглядит фантастически. Когда один российский конструктор ракетных двигателей увидел ФАУ-2, то смог сказать только, что такого не может быть. Трудно осознать и достижения Германии в производстве крылатых и зенитных ракет в условиях войны. И это несмотря на то что уровень промышленной милитаризации в Германии был ниже, чем в России. Из каждой тонны выплавляемой стали в России примерно 900 кг шли на военные нужды, в Германии – меньше 800 кг.
Достигла ли наша страна конкурентоспособности после войны? Продвинулась ли она вперед с точки зрения конкурентоспособности? Многие утверждают, что можно обеспечить конкурентоспособность России на базе достижений ВПК. Я в течение двух с лишним десятков лет разрабатывал систему программ и методик сравнительного анализа уровня технического совершенства ракетно-космической техники. Эта система была построена на анализе уровня технического совершенства элементной базы, материалов, всех исходных изделий. Далее оценивался уровень технического совершенства отдельных систем, агрегатов, двигателей, систем управления; затем – ракеты, комплекс в целом. И потом уже российские системы сравнивались с идеальным образцом.
В основу этого образца, конечно, были положены американские технологии и решения. Специально для тех, кто рассчитывает на то, что российский ВПК может быть движущей силой, я должен сказать, что в лучшем случае Россия отставала от образца на 15–20%. А в принципе это отставание гораздо больше – из-за уровня элементной базы, из-за высокоточных прецизионных приборов. Например точность американских ракет одного класса была в два раза выше, а масса системы управления – в два с половиной раза меньше. Вот и вся эффективность, энергомассовое совершенство, характеристики эффективности действия у цели.
То же самое относится к космической технике. Россия имела преимущество только благодаря таланту конструкторов. Российские конструкторы всегда были поставлены в жесткие условия: помимо преодоления самих физических условий, им нужно было выполнять немыслимые технические требования, и они изощрялись так, как никому не приходилось изощряться ни в Германии, ни в США. И они действительно достигли значительного прогресса. Я уже приводил пример, когда не получалось, допустим, качающееся сопло у твердотопливного двигателя, тогда начинали управлять ракетой путем раскачивания головной части. Это было исключительное решение по своей сложности, но – решение!
И даже в этой относительно изолированной области Россия не смогла создать конкурентоспособную продукцию. Пример Германии показывает, что милитаризм может способствовать высочайшему уровню технического совершенства, конкурентоспособности. Почему Россия не сумела достичь конкурентоспособного уровня? Речь идет не только о культуре. Применительно к нынешним временам приходится говорить о колоссальном провале в генофонде, и это нельзя не учитывать. Я считаю, что в советские времена, по сравнению с нынешними, были достаточно умные и грамотные руководители. Кто скажет, что Дмитрий Устинов был неграмотным человеком с точки зрения военно-промышленной политики?
Но позволю себе одно замечание. Почему конструкторы имели такие прекрасные достижения? Потому что они были поставлены в привилегированное положение, и всегда считалось, что конструктор – это главное. А что такое в Советском Союзе был технолог? Это была категория, которая никакими преимуществами не пользовалась. Разве Устинов делал упор на то, чтобы эксплуатационная ремонтопригодность в стране была высочайшей? Созданным системам давали короткий гарантийный срок, потом, если надо, его продлевали и все.
Фактор долговечности любой продукции – это важнейший показатель конкурентоспособности. Не было этого в СССР потому, что общая оборонно-техническая политика была далека от совершенства. Не было целей и институтов, которые системно могли этот вопрос рассматривать. И, конечно, никто не думал ни о какой конкурентоспособности.
Здесь говорилось о модернизации через противодействие угрозам. Модернизация может быть только обоснованной, системной, как и вообще промышленная политика.
Кто определяет сегодня основные направления или прорывы в области инновационной деятельности? Не крупные корпорации, а малые и средние фирмы, число которых в России снизилось с 15% до 7%. Их, по существу, уничтожили. А на Западе при создании огромных холдингов, у которых практически и конкурентов нет, кроме как на мировом уровне, малые и средние фирмы, поставленные в жесткие условия внутриотраслевой конкуренции, делают прорывы, которые крупные корпорации, в том числе военные, используют в полную силу. В России этого нет. А без этого никакая конкурентоспособность невозможна.
Михаил ПОГОРЕЛЫЙ:
Вопрос о конкурентоспособности упирается в возможность гражданского общества влиять на процессы укрепления обороноспособности и оборонно-промышленного комплекса. Иначе говоря, это каналы взаимного влияния.
«Тайфун» – самый мощный и самый большой в мире подводный ракетный крейсер. Проблемы с химией не позволили создать компактную ракету, такую, как у американцев, с таким, как у них, соотношением энергоемкости и массы. Российская ракета получилась в два раза тяжелее, поэтому для нее понадобился суперогромный подводный катамаран, а для него соответствующие порты (он нигде, кроме как на Севере, базироваться не может), портовое оборудование, стотонный кран, судьбу которого решает Государственная дума.
Изначально технологически несовершенные решения потребовали создания чего-то уникального – только потому, что не было возможности создать нормальное, конкурентоспособное оборудование.
То же относится к авиационным, космическим системам. Речь идет о каналах взаимного влияния. Узкопонятое прикладное значение той или иной отрасли образования или науки отсекает «ненужные» с точки зрения сегодняшних начальников и вождей отрасли научного знания (как в свое время – кибернетику или генетику). И тогда отставание получается не на 15% и не на пятнадцать лет, а на все пятьдесят лет и 200%. А попытка ускоренными темпами пробежать за пятнадцать лет эту историческую дистанцию приводит к тому, что можно надорваться, пытаясь преодолеть это расстояние и лишая общество ресурсов, необходимых для решения других, не менее важных задач, связанных с социальными нуждами.
Александр БЕЛКИН:
Тот, настаиваю, остаточный, ублюдочный или сырьевой структурный милитаризм, как его обрисовал Виталий Шлыков, может только способствовать уничтожению остатков нашей обороноспособности и разрушению нашей государственности и общества.
Нельзя сравнивать несравнимое, как это делал Владимир Дворкин. Говорить о конкурентоспособности закрытого советского общества и его закрытой экономики не приходится. С кем конкурировать? С самими собой, что ли? С точки зрения научного изыскательства это было интересно, а на протяжении своей истории Советский Союз конкурировать не собирался, за исключением того времени, когда Никита Хрущев и за ним Леонид Брежнев со товарищи решили повысить жизненный уровень советского народа и тем самым все это разбалансировали.
Российский милитаризм производный от российского же этатизма. А этатизм, в свою очередь, связан с тем, что в нашей стране было и во многом сохраняется абсолютно бесчеловечное, антигуманное общество. Человек был еще меньшей ценностью, чем сырье, танки и прочие материальные ценности. И подобная бесчеловечность сохраняется до сих пор. До сих пор в основе принимаемых решений господствуют этатизм и его производная – сырьевой милитаризм, а не интересы каждого человека. А без этого никакого гражданского общества не будет.
Александр ГОЛЬЦ:
Что такое сырьевой милитаризм?
Виталий ШЛЫКОВ:
Советский ВПК почти полностью субсидировался за счет базовых и сырьевых отраслей и держался только на этом. СССР был автаркическим государством, где производство сырья носило сугубо милитаристский характер и не было ориентировано на захват внешних рынков, поднятие конкурентоспособности национальной экономики и т. д.
Александр ГОЛЬЦ:
Альфред Вогт указывает на разницу между укреплением обороноспособности и милитаризмом, как он это понимает: «Это различие фундаментально и имеет определяющий характер. Для рационального военного подхода – это стремление сконцентрировать людские и материальные ресурсы для того, чтобы с максимальной эффективностью решать конкретные задачи. Милитаризм же представляет собой концентрацию обычаев, представлений и интересов, которые хоть и связаны с войнами и армией, но в любом случае требуют гораздо большего, чем просто удовлетворения военных потребностей. Отказываясь от научного подхода, милитаризм опирается на подход кастовый, культовый, на власть и веру. Армия построена так, что служит не целям подготовки к возможной войне, а интересам военных и является по своей сущности милитаристской. Большинство милитаристов, будучи в политике консерваторами, – антиматериалисты, они всегда предпочитают расходовать людей, экономя на материалах».
Я не буду говорить о том, насколько этот умирающий остаточный милитаризм, который прежде всего выступает как милитаризм сознания нашей гражданской и военной элиты, вреден для обороноспособности страны. Переходим к обсуждению второго вопроса, посвященного тому, как этот милитаризм мешает укреплению обороноспособности страны, а также адаптации населения к рыночным условиям.
2. Способствует ли милитаризм укреплению обороноспособности России? В какой степени следование милитаристским стереотипам снижает возможности населения к адаптации к условиям современного рыночного общества?
Алексей АРБАТОВ (директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, заместитель председателя партии «Яблоко»): «Милитаризм сегодня – это отставание в системе принятия решений в области проведения военной политики»
В Государственной думе я работал в Комитете по обороне, и чаще всего мне приходилось слышать одну и ту же фразу: армия – основа государства. Это был очень популярный лозунг, и если бы был проведен опрос в Думе (а Дума – в какой-то степени зеркало общества), то 90% депутатов подписались бы под этими словами. Это и есть милитаризм.
Те, кто придерживался иной точки зрения, говорили, что не может быть армия основой государства, что армия – это инструмент государства для решения боевых задач, а основой государства является экономика (в демократическом государстве – это рыночная социально-ориентированная экономика, разумный государственный аппарат, основанный на разделении властей и т. д.), и наталкивались на полное непонимание. Это тоже демонстрация традиций милитаризма, которые в России уходят намного глубже, чем восемьдесят лет коммунистического правления, они уходят в глубь веков, в петровские времена.
Вместе с тем в Советском Союзе ВПК и экономика были неразделимы в том смысле, что вся экономика обслуживала ВПК и гражданской промышленности доставались какие-то крохи. В то время милитаризм был одним из главных факторов замедления экономического развития и в конечном итоге краха системы. Но, должен сделать серьезную оговорку: это происходило не потому, что на военные нужды уходит большая часть ресурсов, а потому, что в стране, по европейским стандартам, отсталой в социально-экономическом отношении, обеспечить такую военную махину можно было только за счет командно-административной экономики, основанной на произвольном распределении ресурсов, на произвольном назначении цен, зарплат, расходов, фондов и т. д. Иначе для развития серьезной военной машины пришлось бы ждать лет тридцать или сорок.
Опять же повторяю, такая военная машина могла функционировать только за счет того экономического устройства, которое на тот момент существовало. А оно, на определенном этапе обеспечив огромный рывок в сырьевых базовых отраслях, потом, когда мировая экономика трансформировалась, стало тянуть страну назад и все больше вести к отставанию экономики, а вместе с ней и политической системы. Из этого следует, что представления многих российских либералов по поводу того, что если резко сократить военные расходы, то начнет бурно развиваться экономика, были всего лишь иллюзиями, как иллюзорной оказалась и вся та компания, которая пришла к власти в 1991 году.
Дело было не в том, чтобы освободить экономику от военных расходов, а в том, чтобы экономику в корне перестроить. Она была приспособлена для достижения других целей. И в этом смысле экономическая перестройка заводов, производящих дешевую обувь, и заводов, производящих танки, в принципе ничем не различалась. Это была смена командно-административной экономики рыночной. И в этом смысле могла быть эффективной не просто конверсия военной и гражданской продукции, а конверсия командной экономики и рыночной. Это, конечно, не было сделано. Позже выяснилось, что при колоссальном сокращении военных расходов 1992–1993 годов в стране не началось бурное экономическое развитие, а, наоборот, случился экономический кризис со спадом и стагнацией, который продолжался почти десятилетие, пока не был преодолен дефолтом и ценами на нефть.
Что характерно для нынешней системы? Затраты на военные нужды и на то, что здесь перечислено как признаки милитаризма, мало влияют на экономическое развитие России. Его больше всего тормозят совершенно иные факторы. Да, 2,7% ВВП идет на оборону, если прибавить остальные силовые структуры, то получится 3,5%; 15% бюджета направлено на оборону плюс еще 10% – на другие военные нужды. В любом случае – это не фактор экономического отставания, равно как и не отказ от гражданского контроля над вооруженными силами и военным бюджетом. Мобилизационные мощности тормозят конверсию, которая могла бы иметь место, если бы была дана возможность энергичным директорам перепрофилировать производство. Тем не менее я не думаю, что это дало бы мощный импульс нашей экономике.
Милитаризм в его нынешнем виде не является тормозом развития российской экономики. Он сам по себе проблема, и прежде всего проблема для обороноспособности. На мой взгляд, на военные нужды в России направлено очень мало средств даже по размерам российского бюджета и российского ВВП. Другое дело, что на проведение военной политики в ее нынешнем виде, я бы и этих денег не дал. А если бы она проводилась по-другому, то я бы настаивал на том, чтобы на оборону шло как минимум 3,5% ВВП, при условии, конечно, что были бы обеспечены и гражданский контроль, и транспарентность, и широкая дискуссия, и разумное военное планирование. А так получается, что все самое плохое из Советского Союза мы перенесли в новое время (процесс принятия решений, закрытость, внесистемные программы, логика принятия которых непонятна), но перенесли это на скудную финансовую базу. Отсюда произошедший в стране двойной коллапс.
Признаки милитаризма проявляются в отсутствии гражданского контроля и реального политического контроля. Конечно, Путин все решения подписывает, и все решения по крупным программам принимаются в его присутствии, он обсуждает их с Сергеем Ивановым и другими. Вопрос в том, что ни один президент не может быть специалистом во всех областях, особенно в такой сложной, требующей подготовки, особых знаний, как военная. И он может принять разумное решение только в том случае, если ему представлены разумные альтернативы, где четко показано, что вот этот вариант имеет такие недостатки и такие преимущества, а этот вариант имеет другие недостатки и другие преимущества. Вот тогда он может совещаться с независимыми экспертами, выслушать их мнение и принять разумное решение. А когда ему приносят на подпись уже готовый согласованный вариант, и он может на 1% что-то изменить, это – не реальный политический контроль, а всего лишь формальный.
Милитаризм сегодня – это не отставание в модернизации армии, в боевой подготовке (главной проблеме обороноспособности), а отставание в системе принятия решений по проведению военной политики. Из этой главной проблемы вытекают все остальные. И если Россия по системам оружия на поколение отстает от тех же самых американцев, то по системе принятия решений она отстает уже на три поколения. В этом и заключаются основная причина бед российской обороноспособности и главный фактор, из которого проистекает все остальное – «проедание» бюджета, низкий качественный уровень, дедовщина, разочарования офицеров, нищенское их существование, отсутствие разумных программ переоснащения, боевой подготовки.
Михаил ПОГОРЕЛЫЙ: «В России не существует милитаризма как системного подхода государственных и общественных структур к решению задач укрепления обороноспособности»
Является ли милитаризм в России избыточным или, наоборот, недостаточным? Если милитаризм – это избыточность усилий государства в военной области, то мы не наблюдаем этого ни в сфере закупки вооружений, ни в системе материального обеспечения военнослужащих. А если посмотреть на данный вопрос повнимательнее, то станет ясно, что понимания задач, стоящих перед вооруженными силами, нет.
У России нет и не будет в ближайшее десятилетие средств для решения тех «актуальных задач», которые провозглашают Сергей Иванов и Министерство обороны. И их не будет до тех пор, пока в обществе и в военном руководстве не появится понимание базовых вопросов: для решения каких задач России нужны вооруженные силы? Отсюда будет происходить и понимание того, как их нужно строить, чему обучать, чем вооружать. К сожалению, те многочисленные и довольно невнятные доктрины в области национальной безопасности и военного строительства не дают ответа на эти базовые вопросы.
Поэтому, если рассматривать милитаризм как наличие и циркуляцию в обществе огромного количества идей, то милитаризм есть. Но если относиться к нему как к системному подходу государственных и общественных структур к решению задач укрепления обороноспособности, военных задач, с которыми, возможно, государство столкнется в ближайшие два десятилетия, то милитаризма нет.
Виталий ШЛЫКОВ:
Для меня очевидно, что та разновидность милитаризма, которая присутствует в России, разрушает обороноспособность и неизбежно ведет к краху, возможно, худшему, чем был в 1991 году.
Владимир ДВОРКИН:
Эти остатки милитаристского сознания руководства страны, сознания узкой группы даже милитаризмом трудно назвать. Скорее это не милитаризм, а невежество. Сергей Иванов, например, сказал: «Я считаю, что оптимальная численность вооруженных сил – это один миллион человек». Не он должен считать, что оптимально, а что нет. Наука должна определять оптимумы, локальные, глобальные, давать варианты, а руководство потом уже может решать, какой из оптимумов выбрать в данных условиях. Именно это невежество и ведет к потере обороноспособности страны.
Лев ГУДКОВ: «Говорить о конкурентности милитаристской экономики без режима террора и массовых репрессий нельзя»
Бессмысленно говорить об эффективной военной политике без обсуждения военной доктрины, целей, функций вооруженных сил в обществе. Проблемы обороноспособности и инерция идеологического и институционального милитаризма находятся в обратной зависимости друг от друга. Армия до сих пор воспринимается как модельный для государства в целом институт. Именно армия обеспечивает консервацию, трансляцию и воспроизводство имперских, великодержавных ценностей у населения.
В свою очередь, инерция массовых милитаристских, или имперских, гегемонистских и экспансионистских представлений, накладывающих свой отпечаток на характер и цели внешней политики, статус и образ политических лидеров, обеспечивает признание и поддержку самого грубого национал-популизма. А значит, притягивает провинциальных политиков, среди которых особенно сильны консервативные настроения, в центр, способствуя тем самым сохранению прежней рутинной модели государства и принятию соответствующих решений.
Следовательно, имеет место систематическое воспроизводство и самообоснование некомпетентности в политике, потому что милитаристские стереотипы сознания, если говорить о населении, сохраняются сегодня в наиболее некомпетентной части общества. Это пожилые люди, это сельское население или население малых городов, как правило, плохо образованное (во всяком случае, с уровнем образования и квалификации заметно более низким, чем в крупных городах или столицах), с невысоким уровнем доходов, с очень ограниченным кругом запросов и представлений. Но именно выходцы из этой социальной среды, собственно, и составляют нынешние вооруженные силы, именно здесь служба в армии сохраняет свою привлекательность и смысл.
Тем самым воспроизводится и старая военная идеология. Более образованные, более ресурсные группы населения избегают службы в армии, ослабляя не только потенциал самой армии, но и возможности обсуждения и понимания данной проблематики, выбора другой модели армии, поскольку эти группы в наименьшей степени отягощены милитаристскими стереотипами.
Мы все время упираемся в одну и ту же проблему. Дело не просто в армии или в идеологии милитаризма, а в сохранении и воспроизводстве особенностей прежней политической системы. Ее главный принцип заключается в том, что она конституируется «сверху вниз», власть подбирает себе общество, соответствующим образом организует свою поддержку, свою легитимацию, включая и признание своего произвола, т. е. права бесконтрольно решать, что важно, а что неважно для общества, каковы его основные потребности. Не сами люди (через рынок, через представительские органы власти, через СМИ) решают, что им следует делать и как поступать, от чего защищаться и на что тратить деньги, а власть навязывает им свои правила, приоритеты и требования лояльности.
«Система сырьевого милитаризма» (а она касалась не только природных, минеральных ресурсов, но и отношения к людям как безграничному по своему объему «сырью») возможна только при наличии некоторых условий – низкая экономическая стоимость возобновляемого ресурса, низкая цена качества жизни, низкие запросы населения, низкая цена рабочей силы и низкая стоимость человеческой жизни.
Прежде всего это относится к уровню грамотности. Тоталитарный режим достиг пика своего развития, когда удельный вес людей с высшим образованием среди работающих составлял 0,2–0,6%. Основная масса населения в конце 1930-х годов едва достигала уровня обучения трех классов. К концу 1950-х годов этот уровень поднялся до семи классов, а доля людей с высшим образованием превысила 2%. Но режим стал разлагаться изнутри, получать слабые импульсы к развитию тогда, когда доля образованных среди экономически активного населения превысила 8%. Квалифицированного работника нельзя заставить создавать новое при том уровне материального обеспечения, зарплаты, возможностей, который предлагала советская власть в середине 1970-х годов.
Я встречал ссылки на то, что блестящая космическая программа челнока «Буран», в которую вложено столько сил, ума, изобретательности, стоила примерно десятилетней программы жилищного строительства в Советском Союзе. Понятно, что никто не голосовал за такой выбор – пустить деньги на космос, а не на строительство жилья, и никто не спрашивал об этой цене. Решение принималось без участия общества, но оно соответственно и вело себя так, как считало нужным: могло реагировать на систему только халтурой, снижением производительности, а в дальнейшем – отставанием в гонке вооружений, ее невозможностью, общей неконкурентоспособностью социалистической системы и крахом коммунизма.
Дело не в том, что Хрущев начал закупки зерна, он не мог поступить иначе: под угрозой была стабильность режима. Система развалилась потому, что не могла поддерживать чувство удовлетворенности своим существованием у людей даже на том нищенском уровне, каким он был в те годы. Невозможно было сохранять прежний режим изоляционизма и закрытости общества без соответствующей системы массовых репрессий и принуждения. Поэтому говорить о конкурентности милитаристской экономики без режима террора и массовых репрессий нельзя.
Сегодня милитаристские стереотипы и повышение качества жизни населения прямо противоположны. Усиление прежней военной политики будет наталкиваться на сильнейшее сопротивление населения, которое опять-таки будет реагировать вполне определенным образом – равнодушием, цинизмом, неисполнением. А это, в свою очередь, будет оборачиваться коррупцией и внутренним разложением власти и исполнительной бюрократии. Уже сегодня авторитет структур власти, основных институтов крайне низок, причем авторитет наиболее важных, центральных политических институтов – парламента, суда, правительства.
Пусть никого не сбивает с толку высокий рейтинг президента – он лишь компенсирует массовое хроническое недовольство и неудовлетворенность деятельностью правительства и властей другого уровня. Внутри общества зарождается чрезвычайно сильное напряжение, грозящее потенциальной нестабильностью, особенно при нынешней хрупкости всей государственно-политической системы. Если сейчас это напряжение еще не очень заметно, то в ближайшем будущем оно может выплеснуться наружу.
Пока рост напряжения, вызванный отсутствием возможностей развития системы, сдерживается в огромной степени таким фактором, как наличие застойной бедности населения, адаптирующегося к изменениям посредством снижения своих запросов, населения ностальгирующего, неспособного к динамике, к развитию, неконкурентоспособного, пассивно выживающего. Только в этой среде социально слабых людей будут поддерживаться стереотипы советского времени, дух прежнего милитаризма.
Напротив, наиболее динамичная часть российского общества, более образованная, ориентирующаяся на западные стандарты жизни, с другой структурой запросов, если и не станет открыто сопротивляться культу армии и милитаризму, то во всяком случае будет генерировать дух разложения, пассивного уклонения от традиционного для России почитания героизма и служения государству. Последнее останется уделом социально слабых. В свою очередь, нигилизм сильных оказывается главным препятствием для проведения необходимых реформ. Таков парадокс нынешнего развития, парализующий структуры гражданского общества.
Михаил ПОГОРЕЛЫЙ: «Уровень военного образования не соответствует требованиям современной рыночной экономики»
Есть два аспекта проблемы адаптации населения к рыночному обществу и влияния милитаристских стереотипов.
Первый аспект – молодежь призывного возраста, которая идет или не идет служить по призыву, которая соглашается с правилами, предлагаемыми государством, или не соглашается. Каким образом то или иное государственное решение сказывается на адаптации молодых граждан к условиям современного рыночного общества? Вариант первый – люди не идут служить по призыву, не исполняют свой государственный долг. В этом случае возникает ситуация, при которой они не могут функционировать нормально в условиях рыночного общества (не имея на руках соответствующего военного билета, отметок из военкоматов и других организаций), не могут занимать целый ряд должностей. Другой вариант – человек идет служить совершенно добровольно. Бывший начальник Генерального штаба рассказывал, что в Сибирском военном округе стоит очередь из молодых людей, которые стремятся заключить контракт на службу в вооруженных силах.
Что молодые люди, которые приходят в ряды вооруженных сил, смогут вынести из службы по контракту? Будет ли служба в вооруженных силах той школой жизни и просто образовательной школой, которой она являлась когда-то в Советском Союзе и которой она является сегодня во многих странах? Имеет ли возможность человек получать образование, расти или он, закончив службу по контракту, возвращается на прежний социальный, экономический, духовный, культурный уровень? И что он сам привносит в общество, возвращаясь из вооруженных сил? Старые стереотипы или новые взгляды на развитие экономики, государства, общества? Похоже, пока и в том, и в другом случае проигрывают как молодые люди, так и государство и общество в целом.
Второй аспект – что приносят в гражданское общество военнослужащие, отслужившие много лет? Где работают сегодня отставные офицеры и прапорщики? Каким образом они социально и экономически адаптированы к рыночной экономике? Если отбросить частные охранные предприятия и им подобные структуры, то для них остается очень узкий рынок неквалифицированной, грубой рабочей силы. Это ведет, естественно, к большому социально-политическому разочарованию данной части общества и к большим напряжениям в отношениях между военнослужащими, которые начинают понимать, что в гражданской жизни ничего хорошего их не ожидает. Прежде всего потому, что они получают очень мало тех прикладных знаний, которые могли бы быть применимы в гражданской жизни. Реальный уровень военного образования не соответствует требованиям современной рыночной экономики. Как и те практические навыки, которыми люди овладевают за время прохождения службы.
Александр БЕЛКИН: «Никакой гражданской активности в России не наблюдается»
Сохранение милитаристских атавизмов в государственной и общественной жизни не способствует ни активизации граждан, ни формированию гражданского общества, ни формированию здоровых рыночных отношений в экономике.
Однако никакой гражданской активности, даже той части общества, которую мы традиционно называем активной, тоже не наблюдается. Фактически так называемая активная часть паразитирует в известном смысле на остальных трех четвертях населения России. Паразитирует простым способом, переложив на нее воинскую повинность. Любое гражданское общество является обществом свободных граждан, которые понимают, что свобода – это не только установленные законом права, но и определенные законом обязанности, гарантирующие реализацию этих прав. Вооруженная защита интересов страны – это и есть та самая обязанность, которая гарантирует реализацию многих прав, входящих в понятие жизни свободного человека.
Активная часть россиян благодаря доступу к более высокому уровню образования, близости к финансовым источникам и другим факторам, паразитирует на той России, которая считает, что есть Россия и есть Москва. В качестве примера приведу состоявшийся семинар в Высшей школе экономики, где студенты обсуждали известный проект «Зеленое письмо», в котором они отстаивали свое право на отсрочки от службы в армии. Я задал им простой вопрос: если вам эти отсрочки оставят, а призовут потом, по окончании вуза, на два года, вас это устроит? Нет, тоже не устраивает. Молодые люди не хотят служить в такой армии, которая представляет угрозу для их физического и психического здоровья и не дает никакого реального приращения знаний и умений. И за это их трудно осуждать.
Однако они даже не пытаются разобраться в проблемах армии, не пытаются изменить ее к лучшему. Они просто не хотят задуматься над тем, что и как нужно изменить, над тем, что гражданин не только что-то требует от государства, но и фактически формирует это государство. А как можно изменить армию, если лучшие представители населения не хотят служить в ней? Чего мы ждем от армии, почему мы ее ругаем, если мы сами ее такой создали?
Получается парадокс: с одной стороны, мы имеем дело с полной безынициативностью и инертностью общества, а с другой – с паразитической тенденцией, которая раскалывает общество. Если эти обстоятельства не будут преодолены, то, боюсь, что и общество, и государство, и мы с вами обречены.
Владимир ДВОРКИН: «Проблему милитаризма невозможно решить, не создав в России условия для формирования конкурентоспособного гражданского общества»
Мы говорили о той части работоспособного населения, которое уже адаптировалось к рыночной экономике. Необходимо создать ему такие условия, которые привели бы к формированию конкурентоспособной России. Не всякая модернизация может быть принята. Модернизация может быть вечно догоняющей, но не обеспечивающей никакой конкурентоспособности, потому что основные критерии конкурентоспособности, т. е. уровня инновационного и технологического совершенства, – это эффективность, стоимость и многие другие показатели. Население будет содействовать повышению конкурентоспособного уровня или хотя бы приближению к нему России только тогда, когда ему дадут возможность создавать малые и средние предприятия, когда законодательная власть будет независимой и когда будет построено гражданское общество.
Мы опять упираемся в вопросы, связанные с ленинской формулировкой: «Попытка решить частный вопрос, не решив глобальный, всегда будет наталкиваться на его нерешенность». Поэтому любые рекомендации и предложения по поводу того, как адаптировать работоспособную часть населения к рыночным условиям и обеспечить возможность приближения к конкурентоспособному обществу, будут наталкиваться на нерешенность основных вопросов: сильная оппозиция, развитое гражданское общество, законодательная власть, независимость СМИ.
Александр ГОЛЬЦ:
Выступление Владимира Дворкина, как мне кажется, служит хорошим заключением для нашей дискусии. Действительно, конкурентоспособность общества создается не только и не столько решением проблемы милитаризма. Для его формирование необходимы действующие институты гражданского общества, политические и экономические возможности.
Мне хотелось бы откликнуться на тезис Александра Белкина о «паразитарном подходе» большинства населения по отношению к армии, с которым я не могу согласиться. Если некоторая часть общества считает, что государство, которое не они придумали и создали, предъявляет милитаристские требования, не отвечающие их устремлениям, то она вправе их игнорировать. Здесь прозвучала еще одна претензия, которая заключается в том, что, понимая несовершенство государства, эта продвинутая часть общества не пытается изменить его. Однако я вовсе не склонен думать, что рационально было бы улучшить существующую армию, направив туда студентов или людей с высшим образованием. Нынешняя армия не улучшится при существующей модели ее организации. Она просто перемелет то лучшее, что есть в обществе.
Действительная претензия, которую мы можем предъявить к этой социальной группе, заключается в том, что она игнорирует свою возможность включиться в государственное и общественное строительство. И мы должны приложить все усилия, чтобы изменить такое положение дел.
Оригинал этого материала опубликован на сайте Фонда «Либеральная миссия».