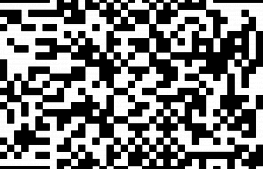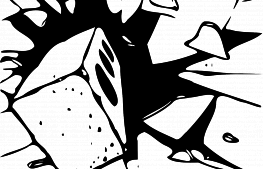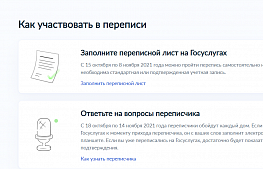Охранительство
Охранительство –
слово, на другие языки непереводимое и в словарях отсутствующее.
Между тем, историю русской мысли по крайней мере со второй половины
XIX века без этого понятия описать просто невозможно: его значение
огромно и вплоть до наших дней оно то уходило в тень, то в тех или
иных значениях становилось вновь актуальным. Устойчивого смысла оно
так и не приобрело, однако чаще всего под охранительством понимается
идейная направленность на сохранение существующего положения дел,
особенно что касается государственной власти; и иногда им обозначают
приверженность к той идеологии, на которой эта власть основана. При
этом конкретные очертания этой идеологии могут сколь угодно
варьироваться в зависимости от эпохи, да, наверное, и от страны.
Впрочем, почему-то в других странах этому понятию нет соответствия,
хотя сама по себе стратегия охраны существующего режима вряд ли
актуальна лишь для России. Значит, есть в охранительстве что-то
такое, что выходит за пределы пусть и принципиальной и очень идейной,
но всё же простой поддержки действующей политической системы.
Другой вариант
использования слова «охранительство» – в более
возвышенном значении «охранения основ» –
общественного строя, народной жизни, культуры, веры и т.д. Но в этом
значении оно вполне тождественно европейскому понятию
«консерватизма», являясь просто чем-то вроде его
русскоязычной замены. И всё же, консерватизм – он и в Африке
консерватизм, а охранительство – наше родное, местное.
Неустойчивость его значений свидетельствует, что как идеология оно
всё ещё складывается, и, возможно, более-менее определённые черты
приобрело лишь в наши дни. Попробуем описать его именно таким, каким
оно предстаёт сейчас – учитывая, конечно, и его давние
исторические корни. И здесь я бы выделил два основных источника этой
идеологии: особое русское понятие государства и очень своеобразный в
местном приложении российский либерализм.
Принято считать, что
«государство» – универсальное понятие, однако
никаких серьёзных доказательств этому мы не имеем. Запад (а, может, и
Восток) «государственности» никогда не знал. В латинской
традиции античного времени единого понятия не было, зато
употреблялись слова civitas, respublica, regnum, imperium и т.д.,
которые мы все скопом считаем различными формами государства. То, что
мы называем «государственным», передавалось словом
«publicus». Ещё большее разнообразие в терминах было в
средние века. Понятие же, абсолютно господствующее в современных
западных языках (stato, state, Staat, état, estado и т.д.)
было введено только Николо Макиавелли и постепенно стало входить в
языки лишь с конца XVI-XVII века. Его «stato» – от
лат. sto, stāre – стоять, покоиться, держаться, отсюда же
status – состояние, положение. Корень, кстати, частично
заимствованный и в русском языке («статус», «статуя»,
«статичный» и т.д.), но отсылающий к индоевропейскому
корню, в русском языке также присутствующему («стоять»,
«постоянный», «стать» и т.д.). Это новое
понятие о государственности пробивало себе путь в европейские языки
по мере деперсонализации власти и утверждения представительских
систем, в которых сама власть определяется через «общество»,
снизу. То есть это то, чего русская история почти не знает.
Наше
же «государство» – специфически местное понятие,
отражающее именно русский исторический опыт и более никакой
другой[1].
Однако изучение его своеобразия толком не проведено: мы даже можем
утверждать, что нам до сих пор неизвестно, что такое государство. В
основе этого понятия лежит титул «государя» («господаря»
в более старой форме), однако, при довольно обширной литературе об
истории и значении титулов (великого) князя и царя, титул государя
остался наименее изученным. Возможно, это связано именно с его
своеобразием: для прочих русских титулов были найдены западные
параллели (правда, условность и даже неадекватность этих аналогий не
раз подчёркивалась в научной литературе), но для «государя»
соответствия не нашлось. Мы плохо знаем, когда и кто начали называть
себя государями, какова была история этого титула, что составляло
«государство». Хотя можем предполагать, что скорее всего
оно являлось чем-то вроде «dominium» государя и,
соответственно, определялось фактом его власти.
Однако уже в XIX
веке мы видим, как постепенно аппарат управления государством
обособляется от государя, приобретает самостоятельное значение и
вскоре оказывается более значимым для определения государства, чем
сам государь. Западного «переоснования» верховной власти
с фигуры монарха на правящее сословие или народ у нас так и не
произошло, зато сформировался устойчивый феномен «государства
как аппарата», которое само себя обосновывает и в прочих
легитимациях просто не нуждается. Случившиеся в ХХ веке пертурбации
общественного строя, объявление «диктатуры пролетариата»,
закрепление за коммунистами статуса правящей партии и т.д. эту
ситуацию никак не изменили – государство меняло формы и
идеологии, но продолжало существовать именно как отчуждённый аппарат
управления. Современная Российская Федерация, можно сказать, является
вершиной этого процесса: статус «многонационального народа»
как её учредителя является откровенно фиктивным, зато
государственность сомнений не вызывает – «что-то такое»
и вправду существует, пусть с научной точки зрения это и трудно (или
просто невозможно) описать терминами, принятыми в международном
праве. Но именно благодаря нему существует «центральная
власть». Кто кого учреждает – центральная власть
государство или государство центральную власть – неясно. Зато
есть идеологии, по-разному отвечающие на этот вопрос:
государственничество, ориентированное на защиту именно государства, и
охранительство, ориентированное на защиту власти.
Государство
в России стало отвлечённой системой «аппарата управления»,
который имеет отношение только к одному – к «центральной
власти». Она – власть – его стабилизирует и они
друг друга взаимно легитимируют. «Государство» образуется
через самый факт власти. При том что эта власть имеет в нашей истории
целый ряд прерывистостей, благодаря «государству» она
вновь и вновь становится продолжением своей предшественницы. Для
этого современная Россия даже ввела в международное право новое
понятие – «государство-продолжатель»[2].
Оно не нужно другим странам, так как там государственность передаётся
либо через нацию (суверенный народ), либо через монархию. Здесь
государство продолжает само себя, просто в новых формах. Так
образуется теория своего рода «translatio imperii»,
связывающая различные государственности на территории России в единую
линию. Наиболее чётко эта теория была сформулирована в статье
В.В.Путина о национальном вопросе[3],
где российское государство определено как «историческое»,
и «доставшееся нам от предков». То есть обоснование это
государство имеет не в современной воле народа, а в факте наследства,
выборной преемственности со своими предыдущими формами.
В
XIX веке в России появился идейный настрой, осознававший себя частью
европейского либерализма, но в сущностных своих чертах определявшийся
более местной спецификой, чем западными теориями. Эта уникальность
впервые ярко проявила себя в период Крымской войны, когда российские
либералы (нередко совершенно открыто) желали поражения собственной
стране. Полагалось, что только это может заставить центральную власть
пойти на серьёзные реформы. Тактически это было во многом верно, и
позже не раз возникали ситуации, повторяющие эту же. Поражение России
в той или иной военной кампании понималось не как удар по стране и её
народу, но лишь как удар по «царизму» и государственной
системе, как раз противопоставлявшейся стране и народу. К концу ХХ
века стали знаменитыми слова «Мы стреляли по СССР, а попали в
Россию»[4],
очень точно определявшие двойственность и трагизм такой позиции.
Российский либерализм уникален именно тем, что сложился как
антигосударственное идейное течение. Типичный «либерал»
заявляет свою нелояльность к российскому государству и нередко
позиционирует себя как его открытого врага. При этом
затруднительность интеллектуального различения «государства»
и «страны» нередко приводила и приводит к ситуации, когда
нелояльность к государству оборачивается отвержением всей страны,
ненавистью к самим её культурным и историческим основам, в конечном
счёте русофобией. Показательно, что идеи переучреждения российской
государственности на принципе, например, национального суверенитета,
нередко выдвигаемые в последнее время, не находят сочувствия в
либеральной среде: власть «этого» народа представляется
им чем-то ещё более опасным и страшным, чем власть абстрактной машины
«государства».
Российское
«государственничество» возникло в «послекрымское»
время как реакция на этот «либерализм», и оно сохраняет
свою идейную актуальность именно в этой связке. Один из основателей
охранительства очень чётко сформулировал и принцип этой идеологии: «В
вопросах государственного свойства всё должно оцениваться с точки
зрения государства»[5].
При этом государственничество очень близко с европейским этатизмом,
то есть является идеологией, утверждающей максимально большую роль
государства в общественной системе. В этом плане государственники
могут быть (и, например, в 1990-е гг. определённо были) в оппозиции к
«либеральной» власти. В России действует политический
маятник – между антигосударственным либерализмом и различного
рода государственничеством. При этом последнее противоположно
либерализму в идейном плане, но не в тактическом – носители и
той и другой идеологий могут быть и при власти, и против неё.
Охранительство –
идеология, ставящая своей задачей охранение государства, и оно
действительно близко к государственничеству, но не сводимо к нему –
не случайно различается и словоупотребление. Но и не стоит
подразумевать под ним лишь стратегию защиты актуальной власти –
тогда охранителями могут быть кто угодно, кого эта власть конкретно
сейчас устраивает. Нет, охранительство – это идеология, которая
защиту власти ставит в принцип, и потому безразлична к идейным
свойствам конкретной властной команды. Идеология охранительства не в
том, чтобы защищать эту конкретную власть, а в том, чтобы защищать
любую власть, так как это и есть защита государства. Это не защита
режима, а защита (охранение) власти как государственной функции и
всего того, что это государство формирует. Факт центральной власти
здесь понимается как основа государства, как учреждающая его сила. Её
падение видится тождественным с падением всей государственности, и
потому описывается почти апокалиптически, однако её смена просто
переключает охранительство на поддержку новых лиц.
Охранительство
может быть и интеллектуальной позицией, и политической тактикой –
как, например, в случае с ЛДПР и их принципом, который можно
сформулировать примерно так: мы за сильную Россию, а сильная Россия
возможна только при сильном государстве, сильное же государство
возможно только при сильной власти, значит мы за усиление власти –
любой, какая есть во главе России, и значит мы всегда готовы её
поддержать. Как сказано в программе партии, «возрождение мощи и
величия России невозможно без укрепления центральной власти, т.е.
российской государственности»[6].
В этом ряде связанных и отождествлённых понятий состоит сущность
идеологии охранительства. Примечательно при этом, что охранителям не
требуется объединяться в единые политические структуры:
принципиальный настрой на поддержку центральной власти может
совмещаться с различными идейными симпатиями касательно самых разных
сфер жизни общества.
Охранитель может
быть и критиком «курса правительства». Только для этого
требуется производить довольно хитрую подстановку: критика самой
власти невозможна, но она концентрируется на личности кого-нибудь из
крупных чиновников. Его фигура при этом отделяется от власти и
противопоставляется ей как своего рода вредителя, ставящего всю
систему под угрозу. В марксистской историографии в своё время было
выработано понятие «наивного монархизма»: через него
объяснялось, почему народные восстания в нашей истории до большевиков
нередко носили определённо монархический характер. Простой народ
восставал против «плохих бояр» и за «хорошего
царя», объясняя тяготы своей жизни их кознями. Это совмещалось
с уверенностью, что царь хочет всего того же, что и народ, но «бояре
сопротивляются». Как ни странно, эта модель отлично работает и
в наши дни. Более того, она может использоваться и как
политтехнологическое средство: например, когда даже сам носитель
высшей власти выступает со статьями, жёстко критикующими курс этой
власти. Такая «самооппозиционность» обыкновенно не
вызывает подозрений – она действительно работает на авторитет
власти и разве что подогревает желание очистить царские покои от
плохих бояр. Так, принцип безоглядной защиты центральной власти
остаётся незатронутым.
Защита
и оправдание власти являются сущностью идеологии охранительства. Как
очень точно охарактеризовал это Владимир Титов: «Суть
“охранительства” – внушение всем понятия об
изначальной благодати нынешней российской власти»[7].
Стратегия оправдания власти (для этого, по аналогии с теодицеей,
можно использовать термин «кратодицея») толерантна к
изменениям её форм и смене её лиц и идеологий: к примеру,
охранительная позиция вынуждает православных имперцев поддерживать
либеральное правительство. Такая позиция защиты идейно чуждой силы
при власти немыслима в западной политической культуре и в её терминах
просто необъяснима, однако у нас является вполне естественной и
весьма распространённой.
Кратодицея,
свойственная интеллектуалам-охранителям, требует больших творческих
ухищрений и предоставляет охранителю немало головоломок. Сергей
Бирюков дал очень ценную типологизацию охранителей по методу
оправдания власти: «Среди современных российских охранителей
выделяются, с одной стороны, так называемые “интуитивисты”
– то есть эксперты, способные видеть в практически любых актах
российской власти глубинный и сокровенный государственнический смысл,
который, возможно, не “закладывался” изначально самими
субъектами этих действий. Среди последних встречаются и своеобразные
“мистификаторы”, предпочитающие давать истолкование
действий российской власти, исходя из её “высшего
предназначения”, оставляя при этом в стороне сложные и
малоприятные проблемы “политической повседневности”.
Присутствуют среди охранителей, наконец, и самобытные конспирологи,
усматривающие в любых реальных или мнимых “вызовах” в
отношении современного российского статус-кво реализацию неких
теневых схем и проектов, грозящих стране разрушительными
последствиями»[8].
Эту типологизацию, конечно, можно продолжить. Но главное: оправдание
власти может быть очень разнообразным и даже весьма противоречивым,
зато соответствующим самым разным идейным запросам.
Важно при этом
отметить, что для всего этого охранительству требуется огромная
идеологическая пластичность, ибо только она позволяет не выдвигать
претензий к конкретной политике власти и не требовать каких-либо
существенных перемен в ней, однако сохранять охранительную позицию,
когда эта власть всё же поменялась. Тот же С.Бирюков пишет: для
охранителей характерно «отсутствие четких принципов и
идеологических ориентиров, удивительные изменчивость и “подвижность”
мысли, общая конъюнктурная направленность творческих изысканий и
крайне слабая рефлексия, а главное – неспособность дать не
только теоретическое обоснование, но и сколько-нибудь целостное
описание того самого “статус-кво”, который следует
“консервировать” и охранять». Правда, то, за что
здесь охранители критикуются, является не их недостатком, а
обязательным свойством, позволяющим удерживать сущностные основы
идеологии независимо от политических перипетий. Ориентация на власть,
легитимирующую собой государство, а не на нынешнее «статус-кво»
со всеми его сложными особенностями – это и есть российское
охранительство. Интерес же к поддержанию «статус-кво»
имеют те, кто идейно близок к нынешней власти и не хотел бы её смены,
так как рискует оказаться в оппозиции и наблюдать негативно
оцениваемые им процессы – но это никак не охранитель, а просто
сторонник конкретных политических сил.
Всё это так и в
отношении сторонников консерватизма, с которым охранительство нередко
путают, а то и смешивают во что-то единое. Консерватизм постулирует
сохранение основ общественной жизни, подчёркивает важность традиций.
Охранительство же сводится к охранению государственности, которая
совсем не обязательно является частью традиции. Это лишь институт,
«унаследованный из прошлого», но подходить к нему с
вопросом о традиционности его форм не стоит – это просто
лишнее: определяемое властью государство важно само по себе, а не
тем, что выражает какие-то консервативные ценности. Так,
охранительству свойственно наполняться ситуативным и неоднозначным
содержанием. Это стохастическая идеология, что как раз прямо
противоположно консерватизму.
Хотя
надо отметить, что охранители, поддерживая власть, действительно
склонны приписывать ей исторические свойства российской
государственности. Это один из самых действенных способов её
оправдания. Такой подход придаёт всему охранительству своего рода
консервативный лоск. Но некоторых это обманывает – и они, на
каком-то этапе осознавая неконсервативность самой власти,
разочаровываются в ней. Вот, например, как этот момент описывает один
из консервативных публицистов, позиционировавший себя именно как
охранитель: «Все те красивые смыслы, мифологемы и идеологемы,
которые мы приписывали этой власти, на самом деле не имеют к ней
никакого отношения, разве что в порядке иронических литературных
метафор. Продолжать эту бессознательную литературную игру, то есть
продолжать выдавать желаемое за действительное – и себя
калечить, и власть развращать. Апофеозом этой абсурдной игры стали
нередкие ситуации, когда в ответ на какие-то конкретные претензии и
предложения совершенно охранительного толка власть начинает
прикрываться самим охранительством, то есть возвращает тебе твои же
слова. Например, почему в федеральных СМИ у нас до сих пор монополия
либералов-западников? – потому что это целесообразно с точки
зрения охранительства. Почему у нас до сих пор Ленин в мавзолее? –
потому что это целесообразно с точки зрения охранительства. Почему
православные не имеют право создавать свои партии? – потому что
это целесообразно с точки зрения охранительства. И т.д. Если говорить
в терминах Макса Вебера, то консервативная политика как совокупность
ценностнорациональных действий подменяется нашей властью
совокупностью исключительно целерациональных действий. При этом, в
чем сама “цель” – совершенно не ясно, кроме как
желания удержаться у власти как можно дольше»[9].
В этой цитате очень ярко представлено осознание того, что
охранительство и консерватизм – это мягко говоря
нетождественные идеологии. Для охраны системы требуются вещи, которые
откровенно плохи с точки зрения консерватизма. Это, однако, никак не
отменяет того факта, что именно консервативная риторика была и
остаётся важнейшим орудием охранительства и в этом плане частое
сближение и сотрудничество между представителями этих идеологий
естественно.
* * *
Для носителей
идеологии российского охранительства характерен целый ряд
идеологических и психологических свойств, которые обусловливают
своеобразие их позиционирования в российском политикуме, а также
выразительные черты самого «охранительского дискурса».
Отсутствие у
центральной власти каких-либо других оснований, кроме как в
наследуемой «от предков» (то есть, вообще-то, от
большевиков) государственной машине, и отсутствие у этой машины
других легитимаций, кроме как в самой власти и её охранителях,
приводит к потребности объединения подконтрольного населения с
помощью внешних раздражителей. Так, важнейшим свойством
охранительского дискурса становится видение России в качестве
осаждённой крепости. Нельзя сказать, чтобы это было совсем не
адекватно, особенно в наше время, когда Россия слаба, разделена,
почти выключена из системы международных отношений и по большому
счёту не имеет союзников. Однако в данном случае речь идёт не о
фактологических констатациях, а об утрированной модели, из которой
делается немало идейных и дисциплинарных выводов. Государство в осаде
обязывает к мышлению в категориях военного времени, суждениям
«по-трибунальски», к высшей степени подозрительности. И
всё это сочетается с прочным осознанием вечности такого положения:
Россия обречена всегда жить в осадном положении, соответственно
порядки осаждённой крепости предписываются всему её населению на
вечные времена и становятся чем-то вроде её цивилизационной
особенности. Отсюда и характерные «лес рубят – щепки
летят» (как по-прежнему актуальный принцип), «нам не до
комфорта», не до «всяких там прав человека», не до
демократии и т.д. На гражданина смотрят как на солдата, худшее
поведение для которого – нарушение военной дисциплины.
При этом
охранительство не склонно считать это именно русским делом (мы страна
многонациональная), требуя единства народов в осаждённой России.
Русским отказывается в субъектности, однако трудно уйти от того
факта, что эта война – своя именно для русских. В результате
все соседние с нами народы хотят сбежать из этой крепости, ведь это
не их война. Отсюда и актуализация всех этих свойств российского
охранительства в антироссийской риторике национальных движений внутри
России и в новых независимых государствах. Для них всё это и
составляет негативное лицо «российского империализма»: он
основан на насилии, то есть на втягивании народов в осаждённую
крепость ради участия в чужой для них и бесконечной войне. Так,
дискурс охранительства отталкивает от России бывших соотечественников
и возбуждает сепаратистские настроения внутри страны.
Конечно, самым
страшным врагом в осаждённой крепости является не внешний, а
внутренний враг. Задача, формулируемая охранителями – это поиск
и устранение «разрушительных вирусов», то есть всего
того, что ослабляет центральную власть, а значит и государство.
Охранительство, как уже было сказано, весьма толерантно к смене
официальных идеологий, однако при каждой конкретной власти крайне
нетерпимо к инакомыслящим. Все оригинально думающие признаются
скрытыми врагами России и охранитель считает своим долгом их
«разоблачать». Разоблачительный пафос господствует в
большинстве охранительских текстов, особенно если брать не
официальную печать, а интернет-блоги и выступления на круглых столах.
Инакомыслящие обыкновенно обвиняются в работе на деньги и по заказу
внешних врагов, в злом умысле против государства, а также в фашизме.
Последнее связано не столько с попыткой идейного анализа, сколько с
тем, что в русской культуре слово «фашист» однозначно
ассоциируется с внешним врагом. Хотя на деле, если попытаться найти
западные параллели идеологии охранительства, то как раз классический
фашизм и окажется наиболее близким ему аналогом.
Подозрение
инакомыслящего в злом умысле как стратегия отношения к оппонентам
имеет ряд своеобразных причин и последствий. Оно означает признание
своей слабости в том, чтобы понять, почему же человек думает именно
так. Оно означает также и признание своей слабости в переубеждении, а
в результате попросту отказ от диалога. Оно же означает и выбор
единственного пути воздействия на оппонента и утверждения своего
мнения – это его устранение (политическое, социальное,
информационное или физическое). Эта заранее занимаемая охранителем
позиция «слабого» основана не столько на интеллектуальном
недомогании, сколько на определённой степени безразличии к
содержательной стороне любой такой дискуссии. С врагами не
дискутировать надо. Отсюда же возникает и становится столь популярным
в обществе запрос на репрессии, легко оборачивающийся идеализацией
сталинского времени. «Оправдание власти» и через неё
борьба за утверждение сильной государственности – это своего
рода «священная война» для охранителя, и здесь нет места
интеллектуальным играм, ведь глупо было бы в Великую Отечественную
войну спорить с немцами о преимуществах коммунизма и пагубности
нацизма. Охранительство актуализирует весь идейный и чувственный
комплекс защиты Родины от врагов, но – уже во внутренних
отношениях, внутри гражданского общества. Наличие откровенно
нелояльного государству оппонента (в первую очередь российских
либералов) задаёт структуру отношения вообще к оппозиции, и здесь уже
нет различений – либералы это или консерваторы, коммунисты или
нацисты. Охранитель занимает единственно верную позицию охраны власти
и государства, все несогласные – его враги.
Такой идейный
настрой напрямую сказывается и на структуризации политической жизни
страны. Само собой, что диалога с оппозицией он не предполагает. В
охранительской логике с оппозицией должны разбираться специальные
службы государства, устранять предателей, пресекать их
антигосударственную деятельность, и это вообще не дело провластных
политических сил. В результате охранительство подразумевает
совершенно иную, чем западная демократия, политическую модель. И в
первую очередь – ему претит партийная система. Российское
государственничество обосновывает и оправдывает господство
чиновничьего слоя – как корпорации людей, представляющих собою
власть и собственно «государством» и являющихся. И
охранительство неизбежно защищает именно эту систему политического
господства. В таких условиях наличие партий (то есть организаций,
представляющих интересы различных других слоёв населения),
представляется не просто лишним, но и опасным – они своим
оппонированием осуществляют антигосударственную деятельность.
Зато появляется
феномен «партии власти». В советское время не было цели
имитировать многопартийность, поэтому система была честнее, просто
запретив все остальные партийные организации. Само же название
«партия» было скорее рудиментом прошедшей эпохи. «Партия
власти» – это, конечно, псевдо-партия, так как претендует
на выражение интересов всего общества в целом (и называться она
должна, наверное, «омнией» – да в политологии нет
такого понятия). Она представляет весь «политический класс»
общества, то есть всех тех, кто имеет отношение к реальному
управлению системой. В современной России она является,
действительно, чем-то более похожим на партию, так как «политический
класс общества» почти полностью сведён к чиновничеству и партия
власти является выразительницей интересов именно этого слоя. Однако
её идейное позиционирование неизбежно остаётся тем же –
представительство интересов всего общества как целого. В условиях
отсутствия государственной идеологии эта претензия обусловливает и
идеологическую аморфность, неопределённость партии власти, ведь
только так можно более-менее соответствовать сразу всему обществу.
Единственная более-менее определённая идеологическая основа, на
которую может опираться партия власти – это идеология
государственничества. А единственная интеллектуальная стратегия
самоутверждения – охранительство.
В
охранительстве государственность оказывается пустой формой, и потому
определяющая её власть становится единственным, что положено
охранять. Это же касается и вообще государственничества – в нём
суверенитет фиктивен, так как его носителем является не народ, не
монарх, не какая-то социальная корпорация, а государственный аппарат
как таковой. При этом политическая лояльность граждан должна
полностью доминировать над какой-либо другой: этнической,
конфессиональной и т.д., а значит и доминирующая идентичность должна
определяться лишь государством. В результате важнейшим принципом
охранительства становится неприятие общественной инициативы, причём
любой – в том числе и лояльной и даже «верноподданнической».
Эдуард Попов, описывая ещё скорее ранние истоки этой идеологии в XIX
веке, заметил: «Ключевые постулаты идеологии
государственнического консерватизма заключались в неприятии
общественной инициативы, даже исходившей со стороны лояльных слоев
населения, включая дворянство. Единственной творческой силой русской
истории признавалось государство (вспомним центральный для
историографии и идеологии Н.М. Карамзина тезис о самодержавии-творце
русской истории)»[10].
Это делает в принципе невозможным существование гражданского общества
– оно становится не просто опасным для власти, но и ненужным
всей системе. И общественные организации и партии, ориентированные на
выражение интересов каких-либо частей общества, тут же оказываются
врагами всей государственности.
Вследствие этого
самым банальным конфликтом для охранителей оказывается борьба с
различного вида патриотами, то есть с теми, кто лоялен стране, а не
формам государственности. От патриотов малых народов при больших
бюджетных доходах ещё можно откупиться, но наиболее опасными
становятся русские патриоты – они нарушают всю систему
лояльности и тем самым оказываются гораздо более опасными игроками
политического поля. Любые общественные акции и движения, основанные
на русской идентичности, уже традиционно объявляются фашистскими.
Русские в СМИ изображаются народом, склонным к подавлению других, по
самой природе своей шовинистическим. Так, охранительство защищает
государство от русского народа, сдерживает «русскую угрозу».
Одновременно объявляется, что именно государственная машина способна
образумить этот народ, ввести его жизнь в приемлемое русло.
Русским
(единственным из всех более-менее крупных народов государства) не
даётся самоуправление, им отказывают в государственном статусе, но
при этом подчёркивается во всех отношениях позитивное, смиряющее
воздействие на них центральной власти и государственной машины. Одно
из самых ярких выражений такой точки зрения было записано в блоге
принципиального охранителя Владимира Букарского: «По поводу
«порки русского человека». Так исторически, географически,
ментально сложилось, что русский человек действительно нуждается,
грубо говоря, в плётке. Когда русский человек живёт под
государственным тяглом, он достигает чудесных результатов –
выигрывает войны, покоряет Сибирь, строит города, покоряет Космос. А
когда тот же русский чувствует ослабление вожжей – он
разнуздывается, преображается донельзя, устраивает смуты и революции,
грабит и заливает кровью собственную страну. Первое непоротое
поколение русских людей, о котором мечтали прекраснодушные либералы
XIX века, вогнало Россию в кровавую тьму революции и гражданской
войны. Русскому народу нужна плеть. Точнее, нужна великая мечта и
мудрый начальник с плетью. И народ это инстинктивно понимает –
неспроста в народе такой заоблачный рейтинг Сталина»[11].
Так русофобия оказывается одной из важнейших сторон охранительства:
русский народ видится не «народом-охранителем»
российского государства, а, наоборот, опасным элементом всей
конструкции[12].
В ранг «потенциального врага», которого надо сдерживать и
от которого надо охранять государство, попадает основной народ этого
государства.
Но
описанной системе не нужны и охранительские инициативы, и в этом
можно усмотреть своего рода трагедию приверженцев такой позиции.
Капкан охранительства в том, что у власти могут быть и не
государственники. При этом система работает сама по себе, и наличие
слоя идейных охранителей ей не так уж и необходимо. Это почувствовали
на себе многие наши охранители в начале десятых годов. Уже
цитировавшийся выше Аркадий Малер так это описал: «В
большинстве своём охранители нулевых ничего не получили от
охраняемого ими режима и их личные успехи никак не были связаны с их
политической позицией»[13].
Их не только не «взяли наверх», но и не допустили в
«высший свет» российской политики. Тимофей Шевяков
сравнивает охранителей «со сторожевыми псами – хозяев
хранят самозабвенно, до севших голосов, но на порог хозяйского дома
их не пускают»[14].
Надо
учесть ещё и то, что сама позиция охранительства, связанная с
поддержкой власти несмотря на её собственные идеологические кульбиты,
для интеллектуала довольно сложна. Как можно прочесть у одного из
записных охранителей «нулевых» годов Артёма Акопяна, так
же разочаровавшегося в этой позиции: «Хорошо быть охранителям
при монархическом устройстве, когда можно жизнь прожить, служа
Государю, и веря в его право от Бога царствовать “сильной
державой на славу нам”. А тут само государство меняется
быстрее, чем эволюционируют вместе с ним ваши взгляды, вот вы и
остаетесь где-то далеко позади: растерянный и опустошенный»[15].
Эта обиженность охранителей на охраняемую ими власть – вполне
естественный результат работы системы: она держится вовсе не на
охранителях. Более того, если она начинает прибегать для
самосохранения к помощи охранителей – это лишь означает, что
она уже слишком слаба и наверняка скоро сменится. «Власть
государства не на мнениях основана; или её нет на деле, или она
держится сама собой, независимо от мнений», – писал
Михаил Катков[16].
Охранительское
течение, ориентируясь на власть и безоглядно её поддерживая, являет
собой ту самую «инициативу снизу», которая как таковая
внесистемна и для власти опасна. Очень точно об этом написал Андрей
Громов: «На самом деле (и это касается не только пишущих)
режиму (системе) не нужна лояльность и совсем не нужны лояльные
деятели. Деление на чистых и нечистых проходит вовсе не по линии
лояльные не лояльные. Важно только являешься ли ты частью системы
или нет? Причем, являясь частью системы, от тебя совершенно не
требуется лояльность (опросы среди властных элит дают поразительные
результаты по степени нелояльности этих самых элит, в том числе и
непосредственно чиновничьих, этой самой системе)»[17].
Действительно, меньше всего охранительских настроений можно найти в
среде самого чиновничества, причём чем выше его уровень, тем ещё
меньше. Там искренне охранительская позиция совсем не в чести. Однако
это не обрушивает систему – нет, просто она безразлична к
личной позиции участника, если только его деятельность не приобретает
противоречащий ей характер. При этом официальное охранительство и
государственничество остаются господствующими идеологиями, идейно
определяющими систему.
Всё это сопрягается
с ещё одним важным свойством охранительской позиции – её своего
рода фаталистичности. Государство уже создано, оно уже есть и вся
задача – в его защите, в охранении власти. Известная
ироническая фраза «так сложилось исторически» приобретает
значение вполне серьёзного принципа политического и национального
бытия. За этим скрывается отсутствие осознания «сделанности»
истории и дня сегодняшнего, отказ от какой-либо ответственности за
прошлое и настоящее, и отсутствие решимости созидать будущее –
ведь оно само создаётся, исторически «получается».
Требуется лишь защитить наличествующую государственность. Она –
субъект действий, а обществу в субъектности отказывается.
И, действительно,
такой подход вошёл в русское сознание, стал чуть ли не
господствующим. Это, кстати, очень ярко проявляется в политическом
поведении русских в бывших советских республиках. То, как русские
люди готовы спокойно и даже преданно служить новым независимым
государствам, образовавшимся на территории исторической России –
это тоже проявление государственнической формы мысли, со всем его
фатализмом вошедшей в национальное мышление. Просто там факт
государства другой – «исторически сложилась»
независимая Украина или Киргизия, и отношение к ним строится ровно
так же, как и к России – государственность надо признавать как
данность и защищать, а ростки русской субъектности расценивать как
опасные и недопустимые. Государственнический и охранительский настрой
русских в ближнем зарубежье ничем не отличается от соответствующих
умонастроений в самой России. И, как мы видим, он на удивление прочно
блокирует любые попытки низовой самоорганизации и постановки вопроса
о национальных правах.
Возможно, господство
пассивно-государственнического отношения в русском сознании основано
на каких-то более глубоких свойствах менталитета, каковым он стал к
исходу ХХ века. Современным русским в массе своей свойственно
осознавать мироустройство и все действия в нём не с точки зрения их
священности, разумности или бытового удобства, а просто как данность,
как некий предписанный порядок, который надо соблюдать и защищать, не
особо о нём задумываясь. Есть специфически русское выражение: «так
положено» (и «так не положено!»). Оно употребляется
очень часто и является важнейшей формулой оценки тех или иных
действий. За ним скрывается ощущение мировой упорядоченности, космоса
общественной жизни, который предписан откуда-то сверху, предписан
вообще, просто потому что «так надо». То, что «положено»,
не должно подлежать сомнению, обсуждению, ему не нужна аргументация,
лишь наша охрана.
Если вам в России
кто-то сказал, что «так делать нельзя», ибо «не
положено», то бессмысленно спрашивать «почему?».
«Вы нарушаете порядок» – единственный ответ, за
которым стоит целая картина мира. «Порядок» в данном
случае – это соблюдение функциональности. «Не положено»
сидеть на лестнице, потому что функция лестницы в том, чтобы по ней
ходили, а не чтобы на ней сидели. От простых бытовых ситуаций этот
подход распространяется и на общественное устройство, и на саму
государственность. Разумен ли общественный порядок, удобен ли, чем
освящён – так вопрос не стоит. Он попросту положен. Поэтому
предлагающие обществу какие-либо иные модели попадают в очень трудное
положение – в них нет ментальной потребности, они нарушают
положенный порядок. Наличествующие формы государственности
(российской или, например, латвийской) – они «сложились
исторически» и потому суть порядок, который нарушать не должно.
Охранительство
стремится защитить и упрочить то, что есть, уповая на силу порядка –
центральную власть и её аппарат управления. Однако сами люди,
находящиеся в этой власти, обыкновенно осознают свои возможности
встать над «положено» и кое-что изменить – в тех
или иных интересах. Поэтому власть и её охранители никогда не поймут
друг друга.
Статья
опубликована в журнале: Вопросы национализма, 2012, № 2(10), с.59-70,
затем
— на ленте АПН.
Примечания
[1] См.
об этом подробнее: Неменский О.Б. Российское государство vs. Russian
state // Сократ. Журнал современной философии, № 3, 2011.
[2] Новая
правовая категория, введённая в международное право Россией в первой
половине 1990-х гг. и закреплённая в законе № 101-ФЗ “О
международных договорах Российской Федерации” от 15.07.1995 и
ряде двусторонних договоров.
[3] Путин
В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета, 2012.01.23.
[4] В
оригинале у А.А.Зиновьева, правда, было «Мы метили в
коммунизм, а попали в Россию».
[5] Катков
М.Н. Идеология охранительства. – М., 2009. С.154.
[6] Программа
Либерально-Демократической партии России (ЛДПР), принята на XIII
съезде ЛДПР 13 декабря 2001 года в г. Москва.
[7] Титов
В. Охранители // АПН, 2010.09.16
[8] Бирюков
С. Наши охранители // Русский журнал, 2010.08.10,
[9] Малер
А. Охранительство без вдохновения – 2
[10] Попов
Э.А. Русский консерватизм: Идеология и социально-политическая
практика. Ростов-на-Дону, 2005. С.102.
[11]http://bukarskii.livejournal.com/ 2011.09.27.
[12] Замечательно
эта мысль выражена также в статье: Ципко
А. Не будем валять дурака! // Литературная газета, № 50 (6350) от
14.12.2011.
См. её разбор: Сергеев
С. Адвокаты лжи // Русская платформа, 22.12.2011.
[13] Малер
А. Охранительство без вдохновения
[14] Шевяков
Т. Лоялизм и охранительство
[15] Акопян
А. Охранительство прошлого и будущего // Русский журнал, 2010.08.30,
[16] Катков
М.Н. Идеология охранительства. М., 2009. С.85.
[17] Громов
А. Лоялизм и охранительство