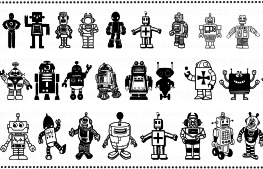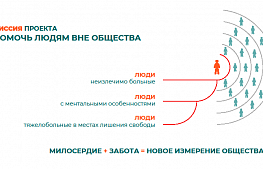Регрессивный синдром
Возможно, кому-то подобная постановка покажется чересчур телеологической, то есть исходящей из предположения о существовании смысла и цели Истории. Однако, даже разделяя понимание спонтанности исторического процесса, оценивая ситуацию как уникальную, как «здесь и сейчас», мы все равно не сможем уйти от характеристики происходящего в категориях социального прогресса/регресса. Более того, если мы не движемся к «чему-то лучшему, к чему-то великому» наподобие коммунизма или капитализма как целей человеческого развития, если не относим улучшение нашей скорбной земной юдоли в отдаленное будущее, мы должны оценить, стало ли наше общество «здесь и сейчас» жить свободнее, безопаснее, зажиточнее.
Склонный к логическому мышлению ум в этом месте потребует определить критерии прогресса. Поскольку плюсы и позитивные стороны перемен в одних смыслах и для одних социальных групп могут сочетаться с минусами и негативными сторонами в других смыслах и для других слоев общества. Не бывает так, чтобы все были довольны в равной мере и одинаково выиграли от перемен. Но в этом отношении российская ситуация выглядит скорее однозначной и кристально ясной, чем двусмысленной и нюансированной. Даже сыграв на противопоставлении фундаментального экономического и промышленного спада (падение производства больше, чем в годы Великой Отечественной войны; нынешний ВНП России составляет около 20% ВНП СССР 1990 года) технологическому прогрессу в бытовой стороне российской жизни (мобильные телефоны, персональные компьютеры, Интернет, западные автомобили и т.д.), нельзя отрицать очевидное – беспрецедентную социоантропологическую деградацию России, в конце ХХ века явившей миру уникальный случай грандиозного регресса невоюющей страны.
Наши люди, бывшие советские граждане, в подавляющем большинстве стали жить меньше, хуже и беднее, а каждое новое поколение в целом физически слабее и интеллектуально менее развито, чем предшествующее. Российские мужчины живут в среднем на 20 лет, а женщины – на 10 лет меньше жителей западных стран; дефицит белка в питании составляет 35 — 40%, а 40% беременных женщин страдают вызванной плохим питанием анемией; если при Советах наша молодежь входила в первую пятерку, а то и тройку по уровню интеллектуального развития, то сейчас (в течение 15 лет!) сползла по этому показателю в четвертый десяток стран.
Этот скорбный ряд можно без труда продолжать почти до бесконечности. Как говаривал тов. Сталин, «кто не слеп, тот видит»: никакими технологическими «примочками» в бытовой сфере невозможно компенсировать такое ухудшение качества человека и его жизни.
А ведь именно социоантропологические показатели (качество жизни и здоровье нации, уровень ее интеллектуального развития) должны ставиться во главу угла при оценке любых масштабных перемен. Разве не благом человека и общества клянутся все идеологии? Разве где-нибудь и когда-нибудь какие-нибудь реформы исходили из презумпции ухудшения человеческой жизни? Разве человеческий потенциал не есть главное условие вхождения в постиндустриальную эпоху и залог успешного развития, как уверяют все без исключения современные социологические теории и футуристические прогнозы? С этой точки зрения происходящее в России есть драматическое сокращение потенциального окна возможностей ее прорыва в «прекрасный новый мир».
Можно возразить: для драматических обобщений прошло слишком мало времени, ситуация меняется к лучшему, сегодняшние потери удастся компенсировать если не завтра, то послезавтра. Однако почти 15 лет «реформирования» России – срок достаточный для того, чтобы говорить о сформировавшейся полновесной тенденции, а не о случайном, ситуативном отклонении. Те же большевики за 15 лет правления четко обозначили прогрессистский вектор развития страны и немало продвинулись в направлении его реализации. А человеческая цена коммунистической модернизации по самому строгому счету выглядит меньшей, чем цена нынешней «демократической» деградации. Что уж говорить о перспективах «свободной» России, которой наиболее оптимистические официозные планы предлагают в качестве социального и экономического ориентира догонять в течение 10 — 15 лет Португалию – наименее развитую страну Западной Европы.
Итак, еще раз четко зафиксируем позицию: по фундаментальным социоантропологическим показателям современная Россия находится не в фазе прогресса или хотя бы стагнации, а на стадии беспрецедентного и усугубляющегося регресса.
Однако это, что называется, «тело» нации, внешняя сторона ее жизни, которая относительно легко поддается наблюдению и фиксации, в то время как гораздо труднее проникнуть во внутренний мир, оценить состояние и вектор национального духа. Хотя внутренняя сторона национальной жизни в долговременной перспективе, вероятно, важнее внешних ее проявлений. Плоть слаба, дух силен – русские, не раз подымавшиеся после тяжелейших поражений и испытаний, знают это как ни один другой народ.
Разумеется, невозможно отрицать связь и взаимозависимость внутреннего и внешнего состояний народа. Так, устойчивое пребывание России с конца 1990-х годов в первой тройке мировых лидеров по числу убийств и самоубийств со всей очевидностью указывает на психопатологическое состояние русской души, которую танатос – влечение к смерти – настойчиво побуждает к различным формам физического и психического саморазрушения.
Тем не менее в массе своей люди не перестают жить, рожать и воспитывать детей, надеяться и верить. И это значит, что состояние аномии – чувство безнадежности и тревожности, ощущение бессмысленности и ненормальности жизни – не приняло всеобщего характера, что ему существует альтернатива, «якорь», удерживающий от полного психологического крушения. В каком-то смысле мы имеем дело с фундаментальным парадоксом современного российского бытия – способностью общества жить в условиях, которые еще двадцать лет назад могли быть сформулированы только в зловещей социальной антиутопии, воспринимать эти условия как нормальные, «само собой разумеющиеся», быть довольными ими и даже по-своему счастливыми.
Объяснение этого парадокса пресловутым русским долготерпением, пластичностью и гибкостью человеческой психики – не более чем бессодержательная банальность. Почему русское терпение закончилось на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века, когда социальные условия для подавляющего большинства населения были в целом лучше нынешних? Почему исчерпался потенциал адаптации к советской системе: вот так вот был и вдруг весь уплыл, причем именно тогда, когда система становилась мягче и гуманнее? И почему люди терпят и приспосабливаются к сегодняшней – явно ненормальной – ситуации?
В самом общем виде ответы на эти вопросы надо искать в изменении базовых ценностей и культуры отечественного общества. Ценности – это то, что придает осмысленность нашей жизни, мотивирует наше поведение, предопределяет наши цели, задает образцы и модели их достижения. Причем – и это чрезвычайно важно – базовые ценности мы чаще всего не осознаем, не рефлектируем, они, что называется, разлиты в воздухе, которым мы дышим, хлебе, который мы едим, в колыбельных матери и уроках отца. В этом смысле они для нас сами собой разумеются.
Так вот, любые масштабные социально-политические и экономические сдвиги исподволь подготавливаются изменениями в человеческом сознании, в области ценностей и культуры. Революции, синонимом которых в России всегда оказывается разруха, действительно начинаются в головах, из которых исходит первотолчок, начальный импульс всякой социальной и экономической динамики. В свою очередь, меняющиеся внешние обстоятельства начинают более решительно влиять на сферу ценностей, отвергая одни и поощряя другие ценностные приоритеты и строящиеся на их основе модели и образцы поведения.
Тем самым происходит и закрепляется фундаментальный ценностный и социокультурный сдвиг, выступающий глубинным основанием и внутренним соответствием изменившегося внешнего – социополитического и экономического – порядка. Возникает если не замкнутый круг, то самоподдерживающаяся система: специфическая конфигурация ценностей порождает определенный порядок вещей, который вынужден сохранять и транслировать эту конфигурацию в целях самосохранения.
Чтобы сделать понятнее эту социологическую абстракцию, приведу хрестоматийный пример с «протестантской этикой» Макса Вебера: современная наука вполне согласна с великим немцем в том, что критически важным предварительным условием появления цивилизованного и нацеленного на развитие капитализма оказывается определенное социокультурное течение, специфическая система ценностей. Не то что без этого капитализм вообще не может возникнуть – может. Но он будет не цивилизованным, а диким и паразитическим антагонистом своего цивилизованного собрата. Более того, западный капитализм, несмотря на свои метаморфозы, и остается цивилизованным лишь в силу этого изначально встроенного морально-этического регулятора и ограничителя – своеобразного блокирующего стержня, предотвращающего взрыв социального термояда.
Соотношение же между западным (а также восточным, где субститутом протестантской этики выступило конфуцианство) и автохтонным российским капитализмами приблизительно такое же, как между овсом и сорной травой овсюг. Превращение последней в культурное растение было возможно лишь в фантасмагорических теориях сталинского «преобразователя природы» Лысенко. Русский капитализм по самой своей природе не может породить чего-то, близко напоминающего «цивилизованный капитализм»; жадность, нерациональность, античеловечность – не приобретенное, а врожденное свойство, роковая печать, пометившая «бизнес по-русски».
Указание на принципиально ущербную природу русского капитализма – не преувеличение и не метафора. Такова его антропологическая специфика – человеческая природа.
По наблюдениям политического психолога Елены Шестопал, в высшем эшелоне российской элиты стремительно размывается социальный инстинкт – фундаментальное отличие человека от животного, то, что, собственно, делает человека человеком, превращая биологический вид в социальную общность. Вероятно, у людей, составивших отечественную элиту, социальный инстинкт изначально был ослаблен, в то время как новая социополитическая и экономическая рамка в наибольшей степени благоприятствовала рекрутированию и продвижению людей, преодолевших в себе «слишком человеческое».
Непредвзятый наблюдатель нравов и этоса правящего сословия России без труда обнаружит, что в отношении отечественного общества оно осуществляет (осознанную или бессознательную) операцию антропологической минимизации и релятивизации. Проще говоря, не добившиеся успеха – а таких в России подавляющее большинство – для элиты не вполне люди, а возможно, даже и совсем не люди. Отношения между богатыми и остальными в России не могут быть описаны и поняты в категориях социального и культурного отчуждения и вражды, речь идет о большем – отношениях, имеющих общий антропоморфный облик, но фактически двух различных видов живых существ наподобие уэллсовских элоев и морлоков. В смягченном варианте речь идет об отношениях «цивилизованных» людей (элиты) и «варваров» (остальных).
Такую – антропологическую – проекцию приобретает одна из ключевых метафор современного российского дискурса: из явного или имплицитного противопоставления России «цивилизованным» странам (вспомним постоянный рефрен: «как в цивилизованных странах») с очевидностью следует, что внутри самой России имеются агенты цивилизации, выполняющие высокую культуртрегерскую миссию в отношении русских «варваров».
Парадокс, однако, в том, что самозваные культуртрегеры цивилизации на деле оказываются одним из главных источников варваризации России, поскольку транслируют в общество нормы и модели поведения, обеспечивающие достижение экономической выгоды и социополитического успеха ценой разрушения общественной морали, нравственности и социальной ткани. Это – не морализаторская инвектива в адрес богатых и преуспевших, а социологическое наблюдение определенной жизненной и социальной стратегии, причем по-своему рациональной. Хотя рынок и капитализм небезосновательно трактуются как воплощение рациональности, «рациональность в своем «чистом определении» – как оптимизация связи целей и средств – отнюдь не предполагает… выполнение данных обещаний, соблюдение принятых на себя контрактных обязательств и вообще осуществление каких-либо этических норм и определенных правил поведения (в том числе – и «рыночных»). Ведь кратчайшим и потому более рациональным путем достижения вожделенных целей могут в некоторых обстоятельствах оказаться убийство, обман, вымогательство, а не эквивалентный обмен, оказание взаимной услуги или исполнение обязательства вернуть долг» .
Таким образом, отечественная элита транслирует в общество не протестантскую этику как морально-этическое основание цивилизованного капитализма, а ее антипод. А что есть антипод цивилизации как не варварство?
Понятие «варварство» в данном случае не просто метафора, а интегральная и вполне академическая характеристика оформившегося вектора ценностных и социокультурных изменений современной России, то есть сдвигов в глубинных слоях человеческой ментальности. Хотя это не в пример более трудный (в силу естественной зашифрованности) предмет анализа, чем экономические и технологические тенденции. К исходу 1990-х все без исключения ведущие социологические центры России сходились в признании фундаментальности и глубины изменений отечественного сознания, отмечая, что перепаханным в том числе оказался один из его нижних и наиболее устойчивых этажей – ценностный.
Ввиду плохой уловимости ментальной «субстанции» научным инструментарием, интерпретация этих глубинных изменений оказалась трудным и неблагодарным занятием. Тем не менее пятнадцатилетний опыт наблюдений открывает некоторую возможность обобщающих выводов, которые оказались, как испокон веку водится в России, полярными в оценке вектора ментальных сдвигов. Но – и это уже непривычно – диаметрально противоположные точки зрения были сформулированы людьми, отнюдь не относящимися к противостоящим политико-идеологическим лагерям.
Один полюс составило мнение известных либерально ангажированных социологов Татьяны Кутковец и Игоря Клямкина, которые на основе анализа структуры ценностных ориентаций в России пришли к выводу, что среди населения страны «модернисты» (или «реформаторы», «индивидуалисты», «протестанты») преобладают над «традиционалистами» (или «консерваторами», «коллективистами», «православными»); что в отечественном обществе сформировалось модернистское большинство, то есть либерализм одержал в России историческую победу на низовом, массовом уровне .
Чрезмерный оптимизм, облегченность и прямолинейность этой точки зрения изначально вызвали скепсис, нашедший убедительное подкрепление в итогах парламентских выборов декабря 2003 года: если либерализм одержал победу в массовом сознании, то его политические результаты вряд ли оказались бы столь откровенно мизерабельными.
На противоположном полюсе находится точка зрения известного социального философа Валентины Федотовой и не менее известного культуролога Александра Ахиезера, полагающих, что в современной России происходит стремительная архаизация социальной жизни и сознания, хотя по-разному объясняющих причины этого процесса . Оценка русского сознания как архаизирующегося гораздо больше соответствует описанной тенденции социоантропологического регресса, чем умозаключение о либеральном триумфе.
Но если архаизация – опускание вглубь, возвращение в прошлое, то надо понять, на какой уровень сознание опускается и к какому прошлому возвращается. Другими словами, нужны качественные характеристики, а не указание лишь вектора движения.
В этом смысле уровень, на который мы опустились, можно смело назвать варварством. В данном случае варварство значит гораздо больше, чем заметные невооруженным глазом примитивизация культуры и огрубление жизни, криминализация социальных отношений, интеллектуальная деградация и вторичность в гуманитарной сфере. Они служат лишь внешними выражениями и симптомами более глубоких изменений – формирования радикально новой ценностной конфигурации, новых моделей поведения, нового качества социальных связей, которые суть ценности иерархии, крови, силы, экспансии, а также предпочтение примитивных и простых социальных связей и идентичностей сложным и большим. Короче, варварство – это архетипический инстинкт доминирования, племенная лояльность по крови, стремление к завоеванию.
Разумеется, варварский (или неоварварский) ценностный и социокультурный комплекс – не единственный в современной России. Бок о бок с ним существует комплекс, основанный на не менее архетипическом инстинкте сотрудничества. Подобно тому, как в одном пространстве сосуществуют примитивная массовая и высокая культура. Но как сфера влияния высокой культуры сокращается под неудержимым натиском поп-культа, так и варварский комплекс находится в фазе экспансии, занимая умы и сердца людей, диктуя правила поведения и жизни.
В историософских трудах XVIII века зрелая цивилизация европейских народов противопоставлялась варварству как юности человечества. Современная Россия стала живым воплощением этой метафоры: носителем варварского комплекса выступает прежде всего молодежь, что придает ему мощную жизнеутверждающую динамику.
Качественное исследование современных базовых ценностей русских выявило, что ведущими мотивами современной молодежи выступают индивидуализм, ценности успеха, благосостояния и иерархии. Последняя, понимаемая как легитимность неравного распределения власти, ролей и ресурсов, суть установка на неравенство, и в этом смысле она носит субстанционально антидемократический характер, будучи антагонистом субстанционально демократической ценности равноправия – подхода к индивидам как к равным перед законом, моралью и разделяющим основные человеческие ценности.
Но без равноправия индивидуализм и прагматизм не могут создать ни демократию, ни либерализм. В этом смысле 15 лет назад наше общество было значительно более демократическим, чем сейчас, хотя, конечно, и гораздо меньше адаптированным к рынку.
На протяжении 1990-х значимость ценности иерархии выросла, а ценность равноправия снизилась в целом для российского общества. Но поистине фундаментальный характер этот сдвиг носил в элите и среди молодежи. В семьях отечественной элиты ценность иерархии приобрела системообразующий характер, задавая структуру ценностей и тип поведения, а для школьников стала базовой социальной матрицей вне зависимости от материального положения и статуса родителей. Другими словами, не важно, идет ли речь о детях, чьи родители богаты или бедны, социально успешны или аутсайдеры. В любом случае ценности иерархии, индивидуализма и силы стоят для них на первом месте при одновременном отвержении ценностей равноправия, коллективизма и духа сотрудничества.
В целом семантическое пространство и ценностно-мотивационную структуру отечественных молодежи и элиты определяет эгоцентризм, в то время как культура воспринимается ими как нормативная и репрессивная сила. Несколько упрощая, можно сказать, что эгоцентризм для этих групп внутренне близок, а культура – внешнее и чуждое понятие.
Разумеется, из этого не следует, что наше общество в перспективе превратится в стаю одиноких волков. Инстинкт сотрудничества не менее архетипичен, чем инстинкт доминирования, но в условиях варваризации социума он приобретает специфическое – тоже варварское – содержание. Как волки сбиваются в стаю, так современная молодежь объединяется в группировки скорее по биологическому, чем социальному признаку. Этот признак – общность крови.
Мало того, что радикальные националистические идеи пользуются наибольшей популярностью именно в молодежной среде, причем национализм ей ближе любых других идеологем вне зависимости от социального положения и политических взглядов . Национальное понимается молодежью не как культурно-исторический принцип, а как прежде всего общая кровь. Иначе говоря, кровь берет верх над почвой, что есть весьма неординарное и исторически не свойственное русским восприятие национальности. Эта доминантная тенденция побуждает скептически воспринимать популярные утверждения о современной молодежи как демократическом поколении: молодежь не только менее демократична, чем советские поколения, она еще и субстанционально антидемократична, а в более широком смысле – вообще отвергает наследие Просвещения.
Хотя объединение по кровному признаку не столь свойственно отечественной элите (но и совершенно отрицать этнические моменты в ее группировании также нельзя), элитная консолидация по кланам носит примитивный, рыхлый и неустойчивый характер. В России не существует образцов и моделей объединения элиты в стратегически значимых общественных целях и с мотивацией, выходящей за пределы чистой прагматики и текущего момента. Весьма показательно, что в отличие от западного капитализма отечественные магнаты не в состоянии соединиться даже для защиты корпоративных интересов, предпочитая умирать в одиночку.
Таким образом, варваризации ценностной структуры отечественного общества соответствует варваризация социальных связей и идентичностей, которые архаизируются, упрощаются и опускаются на локальный уровень. Как отмечает тонкий наблюдатель российской действительности, социолог Леонтий Бызов, в современной России «умирают сложные и большие» идеи, выходящие за рамки непосредственного жизненного опыта и узкой прагматики. Однако группы людей, объединившиеся по биологическому, материально-финансовому признакам или в целях выживания и самозащиты никогда не смогут создать никакого гражданского общества, политической нации, вообще какой-нибудь сложноорганизованной и целостной общности. Поскольку для подобного масштабного социального творчества необходим интеллектуальный, идейный и ценностный горизонт, лежащий за пределами прагматизма и потребностей выживания – в сфере идеального.
Попытавшись экстраполировать в будущее доминантные для современной России социокультурные тенденции и ценностные сдвиги, мы окажемся в социал-дарвинистской антиутопии: иерархическое общество с неравным распределением социальных ролей, ресурсов и знания, где основные социальные связи и идентичности носят локальный (групповой, племенной и клановый) характер; общество, где стремление верхних слоев ограничить вертикальную мобильность в целях преимущественного распоряжения ключевыми ресурсами сталкивается с набегами с «нижних этажей» социальной иерархии и в то же время на каждом из социальных «этажей» идет постоянная война локальных группировок.
Очень важно понять, что происходящее сейчас (и могущее в перспективе произойти) в России – не постреволюционный синдром, не временное «проседание» культуры и цивилизации в ситуации перехода к качественно более высокому состоянию общества, то есть ситуативное отступление в рамках общего прогресса. То, что случилось, и есть новое социокультурное качество, новый ценностный порядок. Это – «прекрасный новый мир», который пришел всерьез, и только от нас зависит, пришел ли он надолго.
К сожалению, в каком-то смысле он исторически неизбежен. Если нам не удалось сберечь и сохранить великую страну под названием СССР, если мы пребываем на ее пепелище и на обочине мировой истории, это значит, что наши ценностные устои, старые социальные институты и культурные формы оказались нежизнеспособными и неэффективными, что они не смогли ответить на вызовы, брошенные Историей. Поэтому на смену сложной и цветущей культуре закономерно пришли простые и примитивные развлечения, развитые социальные институты эпохи модерна заменяются отношениями господства/подчинения, происходит возвращение к категориям власти и крови, взятым в их предельных, обнаженных смыслах. Слой за слоем снимается огромный пласт культуры и социальности, накопившийся со времен Просвещения. Пришедшие варвары примитивны, но и лучше приспособлены для жизни на развалинах великого Третьего Рима, они более жизнестойкие.
Вместе с тем происходящее в России отчасти носит авангардный, опережающий мировые процессы характер. Идеи «предательства демократии» и «восстания элит» становятся пугающим лейтмотивом новейших западных социологических теорий. Только ленивый не говорит сейчас о закате демократии, конце либерализма, сносе наследия Просвещения, низвержении ценности прав человека и прочих прежде ласкавших слух понятий. Возможно, на исходе XX века Россия вновь опередила мировое время, как опережала его в начале века?
Но даже если так, это не то забегание вперед, которое способно служить козырем в глобальной конкурентной схватке. Формирование неоварварского общества происходит в контексте фундаментального социоантропологического регресса, угрожающе снижающего шансы страны на постиндустриальный прорыв и вообще независимое существование. Если варварский этос эффективен в плане внутренней конкуренции, хорош для жизни в агрессивной среде, то происходящее в результате его внедрения ослабление внутреннего единства страны подрывает ее позиции во внешнем мире, где она воспринимается со страхом, презрением и опасением, толкающим к превентивным действиям. Губительно ожидать, когда спонтанный исторический процесс вновь выведет нас на траекторию развития после нескольких десятков лет хаоса и повторной сборки социума. В современном мире ни у кого нет запаса в несколько столетий, потраченных варварскими обществами Западной Европы на частичную адаптацию римского наследия и восстановление разрушенной вследствие падения империи экономической базы. Смена (именно смена, а не корректировка!) социокультурного вектора выглядит архиважной задачей современной России.
Речь идет о том, чтобы, во-первых, остановить социоантропологический регресс, во-вторых, облагородить варварские инстинкты прививкой цивилизации и сотрудничества. В первом случае вряд ли надо придумывать что-нибудь новое, советский (и не только) опыт запуска механизмов прогресса давно и хорошо известен: качественное и доступное образование, медицина и культура, с одной стороны, недопущение и пресечение регрессивных тенденций, с другой. Контуры грандиозных социальных зданий и механизмов, построенных Советами, еще сохраняются, поэтому вопрос в том, чтобы задать им адекватное целеполагание, обеспечить их качественное администрирование и достаточное финансирование. Главным (что не значит единственным) агентом прогресса в этой сфере в России – огромной, с суровым климатом и довольно бедной стране – может быть только государство. И в этом деле оно имеет прекрасную возможность получить массовое одобрение и народную легитимацию.
Фундаментальное препятствие для любых перемен в России составляют не так называемые объективные, внешние факторы (нехватка денег, квалифицированных управленцев и др.), а социокультурный и психологический профиль отечественной элиты, то есть групп людей, номинально призванных принимать стратегические решения и задавать общенациональные цели. Дело даже не в том, что они зачастую плохо образованны, некомпетентны и неэффективны как руководители. Проблема в антропологическом отчуждении и культурном барьере между элитой и обществом, отношения которых типологически выглядят отношениями колонизаторов и колонизуемых, двух различных человеческих рас и даже биологических видов, а не отношениями соотечественников, сограждан или хотя бы человеческих существ. Это различие уже столь капитально, столь глубоко, экзистенциально укоренено, что его преодоление вряд ли возможно без тотальной ротации правящего сословия и ключевых элитных групп. Ведь вряд ли можно ожидать, чтобы российские «цивилизованные» участники глобальной элиты добровольно снизошли до отечественных «дикарей», потратив ресурсы страны на них, а не на элитное потребление.
Что же касается варварского инстинкта доминирования и агрессивной экспансии, формирующего этику и задающего стиль жизни современной России, то здесь ситуация более сложная. Этот инстинкт был и остается абсолютно необходимым в целях повышения внешней конкурентоспособности страны и ее внутренней динамизации. Однако происходящая сейчас его гипертрофия не менее опасна для общества, чем насильственное навязывание модели сотрудничества и коллективизма в советские времена. Поэтому ценности индивидуализма и иерархии надо не вытеснять, а дополнять ценностями равноправия и гармонии, что можно сделать в процессе социализации подрастающих поколений. Естественно, подразумевая, что такое содержание социализации будет государственной политикой и предметом общественной заботы.
В то же время должен целенаправленно формироваться (восстанавливаться) моральный и этический стандарт, задающий пределы допустимого в обществе, особенно в сферах, не регулируемых (или не вполне регулируемых) законом. Государственной политикой должно стать и формирование патриотизма, чувства гражданственности – в общем, всех «больших и сложных» идентичностей, обеспечивающих единство нации и страны.
Накопившаяся агрессивность может быть канализирована в русло общенационального (а не только личного или группового) жизнеутверждения и направлена вовне страны – в экономическую, политическую и культурную экспансию. Образ России как успешной страны и русских как успешного народа (что с точки зрения истории абсолютно верно!) способен служить одним из фокусов социализации и общенациональной культурной политики.
Еще раз повторю: камень преткновения не в том, что надо делать, и даже не в том, как делать, чтобы выбраться из катастрофы. Хотя история не содержит образцов готовых ответов, она внушает оптимизм и уверенность в возможности изменений, причем в сжатые сроки. Главный вопрос современной России в том, кто способен изменить настоящее, какой ценой и ради чего.
Примечание
1. По данным Всемирной организации здравоохранения, на рубеже веков прошедшего и нынешнего по числу убийств на 100 тыс. населения Россия опережала Францию в 43 раза, Германию — в 31 раз, Великобританию — в 27 раз, США — в три раза! И это без умерших от полученных ран и без учета пропавших без вести, подавляющее большинство которых также являются жертвами убийств.
2. Капустин Б. Современность как предмет политической теории. М., 1998. С.176.
3. Кутковец Т., Клямкин И. Нормальные люди в ненормальной стране // Московские новости. 2002. ? 25 (2 — 8 июля). С.1, 9.
4. См.: Федотова В. Анархия и порядок. М., 2000. Также см. рецензию А.Ахиезера на эту книгу в: Pro et Contra. 2000. Весна. Т.5.? 2.
5. Лебедева Н. Базовые ценности русских на рубеже XXI века // Психологический журнал. 2000. ? 3.
6. По данным ВЦИОМ, наибольшую национальную нетерпимость среди сторонников партий демонстрируют симпатизанты СПС — номинально самой либеральной политической силы страны.
Оригинал этого материала опубликован в журнале «Политический класс».