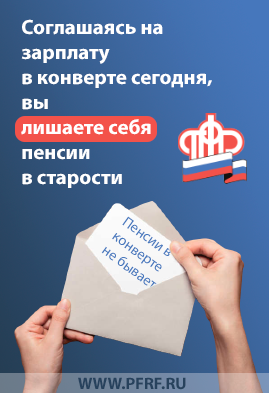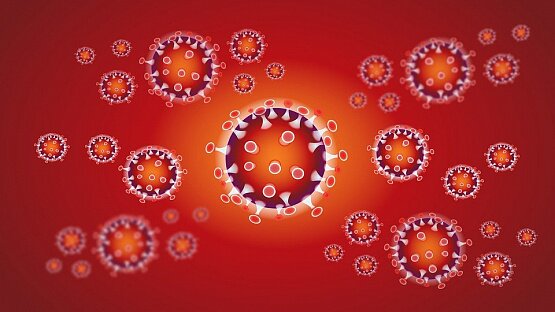Социальные проблемы Церкви
Хор голосов, обеспокоенных вопросом недостаточной социальной активности Русской Православной Церкви, за последнее время стал особенно слышен в отечественных сетевых СМИ. Однако за фасадом обсуждаемых проблем церкви, по привычке рассматриваемых носителями модернисткого сознания в контексте исключительно социально-политического проектирования, остаются многие темы, требующие действительно серьезного разговора. Причем, такого разговора, в котором принцип академического прожектерства вряд ли сможет оказаться полезным.
Любопытно, что в своих статьях Владимир Голышев, Вадим Нифонтов и Виктор Милитарев, разнясь в оценках конкретных проблем Церкви, моделируют по сути один и тот же субъект ее социальной активности. Имена этого субъекта хоть и именуются авторами по-разному ("народное православие", "советский агностицизм", "правильное простосердечие"), но в целом они безошибочно указывают на один и тот же носитель. Этим носителем является ни кто иной, как обычный народ. Этот "обычный народ" в представлениях авторов являет собой заветное среднее арифметическое между атеистическим безверием советской интеллигенции и "безобидными, но злобными сумасшедшими" набожными чудаками, выстраивающих стратегию каждого дня своей жизни строго по церковному календарю. "Обычные" составляют львиную долю пресловутых "80%" православных. Они, как правило, не связаны регулярной церковной жизнью и легко узнаваемы по своему стихийному обрядоверию, больше напоминающего своеобразный тип личной религии, чьи аналогии с буддизмом небезуспешно попытался найти Виктор Милитарев. Наиболее точное определение этой категории людей дал Вадим Нифонтов, назвав их веру "внецерковной формой исповедания" или "православием без Церкви".
Казалось бы, разве можно отрицать существование "народных верующих"? Ведь что скрывать, именно такая форма "исповедания" присуща абсолютному большинству русских людей, считающих себя православными. Однако эти люди наряду с признанием себя православными, как правило, убеждены в том, что самое главное — это верить в душе. В обиходном церковном фольклоре сложилось даже особое наименование таких людей, которых воцерковленные верующие часто величают "захожанами" в противовес "прихожанам", регулярно посещающим Божий храм.
Однако, найденная авторами "золотая середина" едва ли не парадоксальным образом выступает в качестве наиболее адекватной, здоровой и легитимной представительницы нашей Церкви, если не Православия вообще. То есть, является полноценным социальным субъектом веры. Впрочем, самое удивительное здесь не то, что авторы произвольно выводят определенные категории граждан в качестве некоей социальной основы Церкви, а то что эти категории де-факто вынесены за границы собственно церковного пространства. При этом церковный мир, безусловно, становится объектом "среднего христианина".
Я с некоторой долей удивления узнал для себя много нового. Оказывается, представители т.н. "народной веры" не только более активны, образованны, простосердечны, не склонны к фарисейству в любых его формах, но и "как человеческий тип превосходят значительную часть воцерковленных верующих". Более того, им свойственно "правильное понимание природы Церкви и правильное к ней отношение".
Из чего же выводится такой прекрасный человеческий тип "правильного христианина", достойный полотен лучших мастеров эпохи Ренессанса? Почему вообще он выглядит для наших социальных конструкторов предпочтительнее? Да по одной простой причине — ничего подобного они не хотят видеть на "противоположной стороне". Конечно, "народный верующий" несовершенен, его сложно назвать полноценным православным… Так и тянет воскликнуть: "но ведь он социально активен, более приспособлен к современной жизни, а значит, более полезен для Церкви!". Причем, куда более приспособлен, чем хорошо знакомая со времен хрущевской антирелигиозной кампании фигура православного "мракобеса", вечно замкнутого в своем приходе и круге годичного богослужения. Разве такой способен открыть факторию или зарегистрировать мало-мальское значимое юридическое лицо? Ему же "богородица не велит".
Видимо, здесь логика a contrario действует гораздо эффективнее внятных аргументальных конструкций. В чем же заключаются недостатки "среднего христианина" с точки зрения апологетов "морального православного большинства"? Ну, это "совсем незначительные частности". Это повсеместно распространенное, а значит "абсолютно нормальное" обрядоверие, не говоря уже о "вполне допустимом" пренебрежении к активной церковной жизни вообще. А вот достоинства "среднего христианина" уже напоминают стандартную аксиологию завсегдатая шестидесятнической кухни: "порядочность", "не способность на подлость", "простосердечие". И самое главное — не быть такими, как они. То есть, как те, которые соблюдают свои "никому не нужные посты" и "ползают на коленках".
Для любого же нормального воцерковленного человека все вышеописанные достоинства "превосходного человеческого типа" говорят лишь об отсутствии элементарной церковной дисциплины (точнее — самодисциплины), что в реальности проявляется, как сознательное нежелание выполнять обязательные для каждого православного человека уставные церковные практики, которым без малого уже две тысячи лет. Обязательные как для бабушки, так и для профессора МГУ. Если, конечно, бабушка и профессор серьезно относятся к своей вере.
По сути, то что нам предлагают Виктор Милитарев, Владимир Голышев и, в меньшей степени, Вадим Нифонтов, называется гражданской религией. Разумеется, существующей как особая форма церковного сознания.
И тем не менее, посмею утверждать, что народная вера действительно существует. Более того, народная вера — это вполне конкретное научное понятие, превратно истолкованное нашими ангелами Лаодикийской церкви. Имя ему — народное христианство, не имеющее ничего общего ни с простосердечием безразлично-теплохладного "захожанина", ни с полумифическим "практическим пелагианством", по не совсем понятным причинам отсылающим нас с легкой руки Виктора Милитарева к полузабытой городской секте V века.
Но что же представляет собой реальное народное христианство? Религию масс, "православие в душе"? Отнюдь. Это как раз самые архаичные формы народных православных обычаев, имеющие тысячелетние корни и тесно связанных с простонародными верованиями. Это и есть та самая "народная вера", заставляющая исповедующих ее людей во что бы то ни стало посещать кладбища во дни "родительских суббот", принимать участие в молебнах о дожде и во всех крестных ходах, а также безошибочно сопрягать народные приметы с церковным календарем. Такое православие требует от христианина не просто очень хорошего знания литургико-догматических основ церковной жизни, а регулярной или даже повседневной церковной практики, что не всегда доступно обычному человеку. В этом смысле архаичность народного христианства, со всей своей "косностью убогих старух" и реликтами "давно изживших себя традиций", является формой наиболее полного православного вероисповедания. То есть, того православия, которое адепты "среднего христианина" вообще не рассматривают в качестве достойной формы проявления православных чувств. Его как бы и вовсе не существует, несмотря на то, что речь идет как раз о лучших христианах. Более того, эти христиане действительно социально активны в Церкви, как бы парадоксально не звучало это утверждение для аудитории выпускников богословских кафедр. Они осуществляют социальную миссию в нашей Церкви, значение которой трудно переоценить. Ведь не секрет, что приводя за руку в церковь внуков и правнуков, именно "бабушки" адаптируют их к церковной жизни наиболее естественным образом, вводя их в мир православных обычаев и традиций, осуществляя линию необходимой преемственности христианских поколений. Человек с университетским образованием, разбирающийся в богословских тонкостях, способен выполнить такого рода функции далеко не всегда.
Однако в стороне остается действительная проблема, о которой стоит поговорить серьезно. Ее можно обозначить как отсутствие в православной социальной стратификации своего "среднего класса". Эту проблему авторы заметили только с позиций светской социальной активности, в то время как она сперва требует оценки как проблема активности внутрицерковной. Приведенное чуть выше сравнение бабушки и профессора совсем не случайно. Часто можно встретить приблизительно такую оценку социального спектра Русской Православной Церкви. В нем есть две основные группы: полуобразованные, часто пожилые люди ("бабушки") и интеллектуалы, как правило, с гуманитарным уклоном ("профессоры"). Между ними наблюдается некая непонятная масса "простых людей", которые ходят в Церковь в основном потому, что "жизнь замучила". Собственно, обвинения в социальной бездеятельности можно с равным успехом применить ко всем этим категориям.
Но давайте задумаемся: а зачем человек вообще ходит в церковь? Участвовать в политической жизни, выстраивать проекты, становиться социальным активистом? Вовсе нет. Если речь не идет о том, чтобы по пути в родной офис поставить свечку, то такого человека больше всего интересуют вопросы личного спасения. Однако, уже с момента полноправного входа верующего в церковную общину, цели личного спасения начинают идти бок о бок с задачами коллективного спасения. На деле эти задачи подразумевают постепенное включение верующего в социум общины и посильное его участие в разделении груза ее непосредственных интересов и забот. Происходит поэтапная церковная социализация верующего: знакомство со священниками храма, другими прихожанами, расписанием богослужений, затем обязательный выбор духовника и в конце концов — выбор своего места в бытовом укладе приходской жизни, даже если оно выглядит внешне незатейливым. Это выбор чаще всего происходит при участии и совете духовника. Человек не обязательно постоянно трудится при храме или каждый раз испытывает на себе систему подобных "послушаний", но постоянно находится в курсе последних событий приходской жизни, вовлечен в нее и уже живет в ней.
В реальности же, как нетрудно догадаться, дело обстоит далеко не всегда так идеально. Как абсолютно справедливо указал Владимир Голышев, болезни Русской Православной Церкви сегодня — это болезни роста. Одной из таких болезней можно назвать десоциализацию современной православной общины в России. Эта болезнь является многовекторной по своему характеру и затрагивает сразу множество аспектов повседневной жизни Церкви. Несмотря на то, что практически в каждой церковной общине есть свой не особо многочисленный "актив", церковная социализация рядового верующего так и не приняла массовый характер и по-прежнему остается делом исключительно личного энтузиазма православного человека. Большинство аспектов социального участия верующего в жизни прихода — от участия в крестном ходе и вплоть до выплаты церковной десятины, не регулируется сегодня по-настоящему ни священником, ни церковной общиной. Конечно, Церковь при этом учитывает деликатность этих вопросов, исходя из сложности материального положения огромного количества православных верующих, общей неустроенности и чрезмерной загруженности человека ритмом современной жизни. Но политика деликатности в такого рода вопросов не отменяет наличие самой проблемы социализации верующих, которая пока что никак не решается, если она воспринимается вообще.
Неспособность церковной общины самой регулировать систему внешних доходов храма сегодня порождает желание со стороны церковных верхов упорядочить и централизовать всю систему доходов и расходов приходов. Очень скоро в РПЦ может реализоваться проект своей "финансовой реформы", по которому все внешние доходы прихода (включая пожертвования прихожан на собственный храм) больше не останутся при храме, а будут стекаться на общий епархиальный счет, откуда уже деньги будут распределяться сообразно целевым нуждам епархии. Понятно, что такая схема может лишить приходы даже тех немногих признаков финансовой самостоятельности, которые у них пока есть. Однако еще больнее для приходов станет лишение элементарных возможностей хозяйственной самоорганизации, что неизбежно отразится на социальной активности как прихожан, так и церковной общины в целом, снова нивелируя ее значение до третьестепенного адресата в жизни Церкви.
И все же, если тему разговора очистить от откровенного паллиатива вроде бесконечных попыток обвинить Церковь в ее "нежелании демократизировать" саму себя, то мы увидим действительные проблемы самоорганизации приходской жизни в современной России. Сегодня практически все вопросы организации жизни прихода по-прежнему вынужден определять лично священник. Казалось бы, что здесь плохого? Авторитет священника как общественного лидера на всех уровнях всегда был традиционно высоким в России. Однако, до революции 1917 года для священника вес общины значил куда больше, чем теперь. Часто община поддерживала священника материально, который был особенно заинтересован в том, чтобы в его приход входило как можно больше крепких хозяйственников. Эта практика особенно была заметна в сельских районах, где очень долгое время сохранялась традиция т.н. "руги", когда достаток священника почти полностью зависел от того, сколько ему определят прихожане. Остатки этих обычаев можно видеть и сегодня, когда благочестивые пожилые люди иногда приносят в храм и жертвуют батюшке определенную долю урожая со своих участков.
Кризис традиционного общества, отделение церкви от государства и всесторонняя секуляризация общественной жизни в России в XX веке практически уничтожила нормальную церковную общину, сведя ее социум почти до катакомбного состояния и маргинализировав элементарные остатки ее самоорганизации. Политика многолетнего государственного прессинга на церковь привела ко вполне ожидаемой автономизации роли священника в приходе, ослаблению его непосредственных связей с хозяйственно-бытовыми сторонами жизни общины вплоть до сведения священнических обязанностей исключительно к ритуально-обрядовой составляющей его духовных функций. Священник на протяжение XX столетия постепенно превращался из главы христианской общины в местного христианского чиновника, чей вес и социальная роль были существенно ограничены. К середине 80-х годов ситуация, когда священник и окормляемая им община вне непосредственной практики обрядов и таинств существовали как бы отдельно друг от друга, была уже нормой для абсолютного большинства русских храмов.
Как итог, в 90-е годы мы получили следующую картину приходской жизни в России: большинство пришедших в церковь людей так и не нашли себя в жизни общины. Священник, снова ставший полноценным главой церковного социума, вынужден был замкнуть на своей личности все вопросы приходской жизни, поскольку другого способа регулировать эту жизнь у него не было и нет. Церковная община сегодня по сути заново возникает из разорванных социальных лоскутов. Члены одного прихода до сих пор крайне слабо связаны друг с другом, потому что они вошли в церковь в разное время, по разным обстоятельствам и представляют собой самые различные социальные слои. Как правило, они не являются ни соседями, ни даже знакомыми, живущими поблизости. Еще реже они — коллеги по работе. Вместе они встречаются только в общей очереди к исповедальному аналою или стоящими рядом на литургии. Вне церкви их контакты ситуативны и ограничены. После службы они могут пересечься друг с другом на несколько минут касательно полуотвлеченных вопросов, хотя и это происходит мимоходом: чаще всего — между отпустом и ожиданием благословения священника. Очень часто прихожане одного храма не только не знают адресов и телефонов друг друга, но и долгое время пребывают в "блаженном" неведении, кого из них как зовут.
Храм для таких людей не является территориально организующим центром, формирующим общее пространство проживания. Это — очень важное обстоятельство. Современный верующий человек сегодня сам выбирает храм, а не храм выбирает его. Выбор "своей" церкви для современного русского человека в основном, происходит по двум критериям:
1. Уютный храм.
2. Хороший священник.
Тем самым, для человека на третий план отодвигается собственно сообщество верующих, что в принципе составляет основу прихода — церковную общину, с которой он себя ассоциирует в последнюю очередь. И таких людей действительно очень много. В итоге вся палитра богослужений для такого восприятия смешивается в одну сплошную массу, где обычная литургия, вечерня или даже всенощная представляют собой некую утилитизированную "службу", на которую человек "ходит". Спроси такого человека, был ли он сегодня на божественной литургии, он скорей всего замнется на несколько секунд, прежде чем ответить утвердительно. Смысл литургии для него сводится к просто присутствию на "службе", которая сама по себе часто выглядит чем-то второстепенным на фоне "куда более полезных" таинств исповеди, соборования или даже причастия. В последнее время во многих приходах появилась особая градация верующих, которые редко присутствуют на самой литургии, но чуть ли не еженедельно ходят на исповедь. В результате суть основного церковного богослужения как бы проходит стороной мимо таких прихожан, для которых таинство исповеди становится своеобразным "регулярным техническим зачетом", заслоняя собой все остальное, что происходит в храмовом пространстве. Таким образом происходит индивидуализация самого храмового пространства.
Такой тип "индивидуального православного" в чем-то является квинтэссенцией общего состояния социума современной церковной общины, который до сих пор не представляет собой единого целого. Это, кстати, также объясняет и всю произвольную аберрацию взглядов на церквовное сообщество, в котором "яркими" оказываются как раз шипящие на "захожан" "старушки" и "чудики-неофиты", кладущие земные поклоны и "бегающие в поисках духовника". Такая неструктурированность социума церковной общины порождает ряд серьезных проблем, существенных для всей жизни Церкви.
Одной из этих проблем, на мой взгляд, является бросающееся в глаза несоответствие между количеством возрождающихся приходов и количеством священников и самих прихожан. Эпоха массового возвращения православных храмов верующим, которая началась в бурные 90-е годы, родила один из самых любопытных целевых векторов церковной политики. Он заключается в том, что статистика возрождаемых храмовых строений постепенно стала ассоциироваться с возрождением Церкви вообще. Между тем, воцерковление верующих и наполнение ими храмов происходило далеко не лавинообразно. За десятилетие с 1992-го по 2002 год Русская Православная Церковь в РФ выросла с 2880 до 8897 приходов. Но по числу верующих достоверной статистики до сих пор нет.
Тем не менее, можно сделать интересный вывод, исходя из примерных наблюдений. Если не брать за пример Москву (которая представляет собой совершенно отдельное явление для такой статистики), то до 1991-1992 годов численность прихожан не очень крупного храма на воскресной литургии составляла в среднем 30-40 человек. Это, в основном, уже хорошо знакомые "бабушки". Сегодня это число редко где превышает 100 человек и то лишь в городах, являющихся крупными районными центрами. Причем речь идет вовсе не о заполнении новых храмов, строительство которых в таких городах — событие из ряда вон выходящее. Если учесть, что доля "бабушек" как примерных прихожан сильно не изменилась, то статистика получается, прямо скажем, не особо радостная. Нужно отметить, что в последние годы темпы роста количества приходов РПЦ стали уступать соответствующей динамике других конфессий.
На селе же с подобной динамикой так же хуже, как и с демографическим фактором. Правда, здесь стоит оговориться, что сельская церковная община по-прежнему сохраняет в себе некоторые черты социальной модели, лишенной недостатков городской общины. Сельские прихожане — соседи, живущие бок о бок, помогающие друг другу, как правило, работающие вместе и тем самым сохраняющие сам смысл общины, единственный недостаток которой — крайняя малочисленность самих верующих. Очень сложной остается также и проблема кадрового обеспечения служащим клиром как сельских, так и городских приходов во многих областях России. До сих пор не хватает священников в Орловской, Кировской, Курганской областях. Очень большие трудности испытывает в этом отношении Архангельская область, где усилиями московских, питерских и петрозаводских реставраторов уже восстановлено громадное количество церквей, в которых просто некому служить. В ряде районов Архангельской области, ненамного уступающим некоторым центральным областям России по своим размерам, по-прежнему в штате служащего клира находится всего один или два священника, как и в старые добрые брежневские времена.
Отсюда можно сделать вывод, что одной из проблем Церкви сегодня является ее сверхурбанизированный характер. Ощутимый прогресс приходской жизни заметен лишь в крупных городах, на периферии же он остается весьма и весьма условным. Современная церковная община в России по своему социальному характеру, коммуникации и клиру остается явлением сугубо городским со всеми своими возможностями и недостатками. Сегодня реальное пространство РПЦ все чаще напоминает пространство позднеримской церкви, которая так и не шагнула за пределы прежних античных городов, где она собственно и родилась. Между тем, лучшие примеры наиболее здоровых церковных социумов всегда и во все времена имели место в сельской местности, общество которой всегда являлось конечной целью большинства миссий, а вовсе не периферийным и второстепенным фактором для Церкви.
Еще более серьезной социальной лакуной является половозрастной дисбаланс в сегодняшней церковной общине. Уже не является секретом тот факт, что сегодня, как и в советские времена, РПЦ продолжает оставаться "церковью женщин". Мужчин в храм приходит крайне мало и эта ситуация стабильна на протяжении уже многих лет. В редком приходе сегодня доля мужчин из всего числа верующих превышает одну треть, а иногда и того меньше. "Женское лицо" церкви накладывает особый отпечаток как на характер социальной активности прихожан, так и на плоскость ее непосредственной реализации. Для некоторых приходов отсутствие заметного числа мужчин среди прихожан становится очень болезненным, особенно в тех ситуациях, когда восстанавливаемому храму требуется помощь мужской силы, а взять ее зачастую просто неоткуда. Женщины со временем начинают выполняют в таких общинах несвойственные им роли активных хозяйственников-энтузиастов, хотя их внутренней природы больше свойственны иные ценностные ориентиры: поиск душевного покоя, бегство от мирских тягот, социальная инертность и пассивное послушание. Мужчины же, будучи по натуре лидерами и творческими актуализаторами, попадая в такую общину, вынуждены воспринимать ведущую роль женщин де-факто как вполне нормальную для церкви установку, имеющую из-за отсутствия должного преемства настоящей "мужской церкви", едва ли не авторитет традиции.
Приблизительно так же обстоят дела и с возрастным составом современного прихода. Молодых прихожан от 18 до 22 лет встретить в храме сегодня можно, но их по-прежнему — единицы. Доля таких молодых верующих составляет всего несколько процентов от общего числа прихожан. Немногим больше молодых людей до 30 лет, количество которых, как правило, не превышает 10-12%. Остальное число прихожан состоит из вездесущих "бабушек" и людей, которым "за 40". Отсутствие "среднего возраста" между пожилыми прихожанами и немногочисленной молодежью, безусловно, давит на последних, не дает им занять свою полноценную ячейку в православном социуме. Можно заметить, что молодежь 20-25 лет в храме сегодня почти не общается ни с другими поколениями, ни между собой. Молодые люди до сих пор представляют собой своеобразных "чужаков" как для остальных верующих, так и друг для друга. Это — одна из наиболее десоциализированных социальных групп современной церковной общины.
Проблема состоит в том, что православная молодежь очень трудно формирует в церкви сообщество своего поколения. Возникает парадокс. При довольно высоком индексе социальной активности молодых верующих, их творческие усилия и вполне естественное стремление проявить себя в церковной жизни практически никак не координируются самой Церковью и неизбежно распыляются на ситуативные импульсы групп одиночек. Сегодня одним из самых очевидных пробелов этого направления церковной политики является факт отсутствия в РПЦ массовой молодежной православной организации. Молодому человеку сегодня в церкви наиболее сложно проявить себя именно на "молодежном фронте", в активной среде своих сверстников. Входя в церковную жизнь, молодой верующий человек сразу теряется между напускным монархизмом мрачноватых бородачей из Союза православных хоругвеносцев и тонкой интеллектуальной истерией "кураевцев". Не секрет, что и те и другие способны отпугнуть от себя неопытного молодого человека не менее эффективно, чем пресловутое "шипение старушек". Возникновение массовой молодежной православной организации очень способствовало бы решению большинства проблем как коммуникации православной молодежи, так и ее органичной адаптации в церковную общину, включая выработку единой стратегической политики реализации сил молодых верующих людей в Церкви.
Между прочим, "молодежный вопрос" становится камнем преткновения не только на пути процесса социализации церковной общины, но и как основной адресат идеологической политики Церкви, одним из самых важных и одновременно неохваченных векторов являются цели воспитания в верующих национально-патриотического самосознания. Сегодня в РПЦ практически отсутствуют внятные и четко выработанные концепции таких понятий, как "патриотизм" и "национализм", несмотря на постоянно льющиеся на головы водопады соответствующей риторики, бьющей, увы, мимо основного контингента — молодежи. Молодой верующий, приходящий в храм, жаждет не только "личного спасения", как это бывает с "уставшим от жизни" поколением. Молодые люди в Церкви сегодня — это "поколение побежденных", многие из которых выросли в условиях гибели советской имперской модели и тем самым впитали особый менталитет "людей потерянной Империи", поиск которой является одной из характерной черт их национальной и социальной идентичности. Но что им может предложит в этом плане Церковь? Опять–таки "богодержавный монархизм", мало совместимый с современными реалиями и социальными вызовами, идеалом для которого была бы почти механическая реставрация социально-политических моделей дореволюционной эпохи.
С точки зрения большинства священнослужителей советский период представляет собой черный вневременной провал, период одной сплошной народной трагедии и благодатное поле для реализации чувства общенациональной вины за "Россию, которую мы потеряли". Желанный исход реализации такого чувства — т.н. "всеобщее покаяние" за "злодеяния" предшествующих поколений, допустивших разгул богоборческой власти в России. Этот фактор часто ставится как естественное условие для оптимизации всех сторон общественной жизни в России. Не секрет, что на тридцатилетнего человека, у которого в душе остались очень добрые чувства к временам успехов советского строя и тотального социального патернизма, такое отношение Церкви действует двойственно. Происходит искусственная деконструкция уже сложившегося комплекса представлений человека "о хорошем" на черные и белые стороны, неизменно отчуждая человека от моральной привязанности к "неправильной" Истории. Внутри человека постепенно зреет кризис, негласный протест против такого нивелирования его идентичности, что приводит к чувству особой духовной неудовлетворенности и пустоты, которая со временем способна даже оттолкнуть верующего от Церкви.
Практика нивелирования национального сознания находит свое отражение и в официальных документах РПЦ, ярче всего выразившиеся в попытке разработать концепт "христианского патриотизма". Вышедшие в 2000 году "Основы социальной концепции РПЦ" выделили этой теме сразу несколько пунктов.
Так, например, мы читаем в пункте II.3, что "христианский патриотизм одновременно проявляется по отношению к нации как этнической общности и как общности граждан государства. Православный христианин призван любить свое отечество, имеющее территориальное измерение, и своих братьев по крови, живущих по всему миру… Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, народное самосознание".
И практически сразу после этого дается многозначительная оговорка: "в то же время национальные чувства могут стать причиной греховных явлений, таких как агрессивный национализм, ксенофобия, национальная исключительность, межэтническая вражда… Тем более несогласны с Православием учения, которые ставят нацию на место Бога или низводят веру до одного из аспектов национального самосознания".
В такой интерпретации "национальных чувств", которые могут "низвести веру до одного их аспектов национального самосознания", нормальному "неагрессивному" национализму нет места. Кстати, употреблением слова "русский" " Основы социальной концепции" грешат как правило, лишь в исторической ретроспективе, в то время как актуальные связки "русского" с "православным" встречаются, пожалуй, лишь в названии нашей церкви. "Христианский патриотизм" оказывается как бы противопоставлен "национализму", представленным вывернутым наружу с его традиционным "послужным списком": химерами ксенофобии, межэтнической вражды и национальной исключительности. По сути здесь налицо мягкая попытка Церкви отделить христианскую идентичность от национальной идентичности. А еще точнее — переформатировать систему координат национальной идентичности заново, подчинить ее исключительному контролю религиозной совести.
Если в ельцинские годы РПЦ можно было назвать "Церковью сопротивляющейся нации", когда апелляции священников к русскости и возрождению национального духа были чем-то привычным, то сегодня они уступают место иным смысловым наполнениям. Не раз за последние годы я с недоумением слышал, как проповедующие с амвона священники высказывали следующую мысль: "Не важно, что ты — русский. Самое важное, что ты — православный". Как такие вещи могут способствовать реальному национальному возрождению, трудно сказать. Но если Церкви хочется стать церковью нации, а не церковью-нацией, тогда ей потребуются подбирать другие слова, направленные на более четко определенную аудиторию. Тогда эта аудитория действительно станет тем, чем она должна являться — Церковью.
Оригинал этого материала опубликован на ленте АПН.