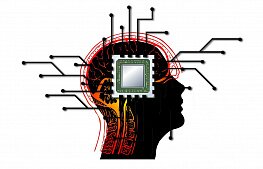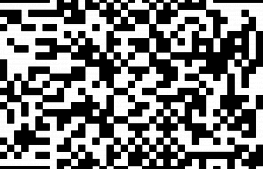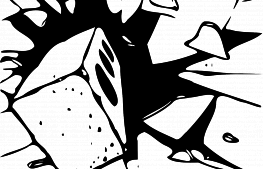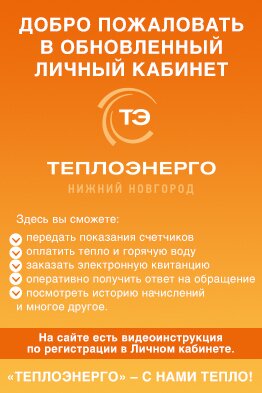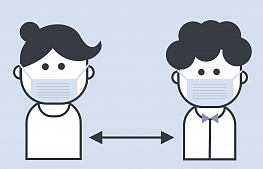Закат, XXI век
Страна
багровых туч
На
80-м году жизни умер писатель Борис Натанович Стругацкий.
И
хотя на первый взгляд может показаться странным, что на сайте, в
самом названии которого значится слово «политический», я
пытаюсь написать свой реквием по человеку громадного внутреннего
содержания, однако не политику, а Писателю, — но согласно известной
формуле, ставшей аксиомой, «поэт в России больше, чем поэт»
— и, конечно, творчество Бориса Натановича и его брата Аркадия всегда
имело кроме прочих и политическое значение, и политическую
составляющую.
Хотя
бы потому, что благодаря им мы, современники, не только учились
видеть то, что политики не желали видеть в своей слепоте. Но и
потому, что создали систему координат, дали точки отсчета, мерило для
всего, что происходит сегодня и может произойти завтра – мерило
нравственное, социальное, политическое, человеческое.
В
каком-то смысле именно политический климат и создает назойливую и
горькую уверенность в том, что смерть Бориса Стругацкого оказалась
преждевременной – именно благодаря ему, этому климату.
В
каком-то смысле именно политическая атмосфера, стягивая вокруг
писателя тугие кольца удушающего дыма, и привела к этой гибели: ведь
даже последние художественные страницы его произведений, не говоря
уже об интервью и публицистике, говорят, что большому художнику на
исходе своих дней стало душно и неинтересно жить в мире, который с
такой зловещей точностью стремится воспроизвести мрачные страницы его
антиутопий.
Для
художника, сильно и неразрывно укорененного в настоящем, это было
губительно. А темы, мотивы, персонажи, идеи мрачных пророчеств,
перешедшие со страниц книг в реальность, могли рождать кошмары,
подобные мукам творческой совести: кто, мол, знает, родились бы
вообще эти кошмары на свет, если бы их не создало твое персональное
художественное воображение, не дай ты им ненароком форму и жизнь.
К
счастью для всех людей, умеющих читать по-русски и еще на 42-х
языках, на которые переведены книги Аркадия и Бориса Стругацких (АБС,
как любовно называют их последователи и фанаты), Стругацкие войдут в
историю прежде всего не как авторы горьких историй о том, как могло
бы быть, да только этого не хотелось бы, а как авторы картины
будущего, в котором хочется жить и дышать – по сути,
единственной картины будущего, которая у нас еще осталась.
Жуки
в муравейнике
В
одном из романов АБС нарисовали картину, как ученые будущего,
лихорадочно торопясь, пытаются записать, закодировать ячейки мозга,
личность умирающего гения – закодировать и оставить эту
личность для потомков.
Хотелось
бы нам подобным образом закодировать личность самих Стругацких –
или бы мы предпочли жить в одном мире не с проекцией, «кодировкой»,
слепком любого дорогого нам человека, а с ним самим, живым, — причем
жить в мире, в котором хотелось бы жить одинаково и нам, и ему?
Когда
уходит Художник, вместе с горечью на задворках сознания мелькает и
чувство, которое нельзя не признать эгоистическим: ах, досадует часть
твоего собственного сознания, неужели, неужели мы не увидим больше
новых его картин, не услышим песен, не погрузимся в его новые фильмы
– и никогда не выйдет ни одной страницы из-под его пера?!
Но
человек уходит – люди всегда уходят. Остаемся мы – для
которых и ради которых он создавал то, что создал. Мы, те, которых он
любил, к которым внимательно присматривался, которых слушал и с
которыми спорил, – и которыми населял свои творческие миры.
При
всей своей устремленности в будущее, конструируя его модели и
обрисовывая контуры, братья Стругацкие всегда были укоренены в
современности. Откликаясь на тенденции, пути и линии дня
сегодняшнего, даже на еще только нарождающиеся с безошибочной
чуткостью, даже свой великий Мир Полудня они населили своими
современниками – по крайней мере, лучшими из них.
Обитаемые
острова
Именно
поэтому в ХХII-м веке так хотелось жить
поколениям читателей века ХХ-го и века ХХI-го
– потому что жить в этом мире, доведись это нам, пришлось бы не
среди ходульных абстракций и не среди назидательных аллегорий, а
среди живых людей, совсем таких, как мы сами и наши друзья –
только чуточку лучше.
И
мы готовы были изменить, воспитать, даже сломать самих себя ради
того, чтобы заслужить право жить в этом «прекрасном и яростном
мире». Мы были готовы изгнать из самих себя «внутреннюю
обезьяну», как изгоняют дьявола среди людей, превратить субботу
в понедельник, попытаться если и не стать самими первыми лебедями,
которые окажутся в этом мире не гадкими, то хотя бы подготовить для
этих лебедей почву – или, если угодно, озера.
Мы
даже узнавали друг друга в толпе – по глазам, живым и веселым,
используя Стругацких как пароль, как пропуск в особое общество
Странников, странников этом мире, пробирающихся в мир будущего
терпеливо и вдумчиво, словно сталкеры в Зоне.
Я
помню, как в начале 1990-х ехал в маршрутке, а девушка за два сиденья
от меня читала книгу Стругацких – а я смотрел на ее
симпатичное, подвижное, умное лицо. Она подняла свой взгляд – и
мы улыбнулись друг другу. Будь я посмелей – мы могли бы стать
друзьями. Или больше, чем друзьями. Да вот — хромая судьба…
Тогда
же, в начале 1990-х мы изучали на филфаке затопившие в перестройку
университетские и школьные программы книги современных писателей. И
пока мы читали «Прощание с Матерой» Валентина Распутина и
«Печальный детектив» Виктора Астафьева, мы с друзьями
всерьез полагали, что в плеяде допущенных тогда до академического
литературоведения писателей не хватает, порой не хватает остро одних
– Аркадия и Бориса Стругацких.
Читая
«Мы», думали в то же время про «Улитку на склоне»
и «Град обреченный», изучая бюрократию и ретроградию по
«Белым одеждам», помнили про «Сказку о Тройке»,
а «язвы современной действительности» хотелось вскрывать
по «Хищным вещам века».
И
сегодня, в дни триумфа и торжества «внутренней обезьяны»,
государство показало импотентную неспособность не только ли создать
искомую национальную идею, но и нарисовать хоть мало-мальски
привлекательный для своих сограждан образ будущего, к которому
хотелось бы стремиться и ради которого хотелось бы жить. Но я думаю,
что любой, кто хотя бы раз входил в эту полнокровную Реку, сохранил
на своей коже память прикосновения ее животворящих струй –
сохранил память о мире, спроектированном и населенном братьями
Стругацкими.
Волны
гасят ветер
Борис
Стругацкий был самым большим из всех живших среди нас русскоязычных
писателей. И пока другие делили, как выразился Владимир Маяковский,
писательскую «курицу славы», получали премии и
предстательствовали от лица русской литературы на международных
книжных форумах и отечественных телешоу, Борис Натанович угасал в
своем Питере, мучаясь от лейкоза и стягивающего клубы дыма климата.
Слово
способно стать оружием пострашнее огнестрельного и даже ядерного –
это еще одна банальность, ставшая аксиомой. Воображение художника,
само существование художника формирует вокруг себя какую-то особую
реальность. И даже место, в котором он родился и жил, изменяет свои
черты и приметы, изгибаясь под давлением его личности, словно гнется
и мнется глина под руками скульптора.
Так,
например, и с Питером. И если существует сегодняшний Питер –
Питер «Газпрома» или «Зенита», Питер
Конституционного Суда или кичливого осознания своей «особой
роли» в новейшей истории России, существует Питер Владимира
Путина, наконец, — наряду с этими питерами — есть и Питер Аркадия и
Бориса Стругацких.
И
если первые питеры существуют в какой-то собственной, странноватой, а
порой и жутковатой реальности, с которой не хочется соприкасаться,
сторонясь его прикосновений, иногда неосознанно, как сторонишься
прикосновений неприятного человека или грязевых брызг, то в
последний, в Питер Стругацких, я обязательно буду еще приезжать.
Чтобы пройтись, прогуляться на тех улицах, где гуляли, жили, работали
они, АБС, мои любимые писатели.