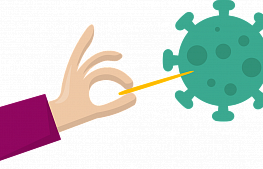Золотой век шлёт привет
 Так хотелось насыщенного и сложного разговора. Так ждал, так готовился.
Так хотелось насыщенного и сложного разговора. Так ждал, так готовился.
Недавно вышла моя книжка «Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы».
Готовясь её писать, я прочитал многие тома мемуаров, поднял и перетряхнул архивы, перечитал собрания сочинений одиннадцати литераторов Золотого века, нашёл множество фактов, исторических анекдотов, текстов, которые либо выпали из филологического оборота, либо вообще никогда туда не попадали.
Издав книгу, я вышел на публику вооружённый и, признаться, довольный собой.
Я думал, что меня будут оспаривать.
Я знал, что оспорить меня невозможно: любой человек, прочитавший книгу «Взвод», с печалью или с радостью признает мою правоту.
В моей книге, страница за страницей, приводятся неоспоримые цитаты из стихов, писем и статей русских литераторов, совершенно определённым образом воспринимавших войну и мир, и свою роль на войне и в миру.
Золотой век, устами лучших своих детей, доказывает: гуманизм и пацифизм — это не синонимы.
Гуманистическая традиция русской литературы в первую очередь жертвенна.
Более того: она была не просто сильна, но — победительна; более того, временами она вполне себе агрессивна.
Голос молодой русской словесности был дерзок. Русские поэты всегда были готовы к драке. Прежде чем русская словесность дошла до Европы (и стремительно, за полвека, Европу покорила, став одной из центральных мировых литератур), русские поэты без зазрения совести, по собственной воле, ехали к шведам, к полякам, к финнам, к туркам, к народам Кавказа, да куда угодно: и навязывали свою волю.
Русские поэты не ведали сомнений. Они были в своём праве.
Теперь можно оспорить правоту русских поэтов Золотого века — но сами факты оспорить уже нельзя. Они вели себя именно так: они воевали.
Несогласным оставалось либо признать это и смириться с этим, либо признать это и отказаться от Золотого века. Тьфу на них, раз они такие плохие.
Но всё произошло несколько иначе.
Книгу «Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы» было решено признать не существующей. Ведь оспаривать то, чего не существует, не имеет смысла.
На всякую прежнюю мою книгу выходило, скажем, тридцать, но чаще, триста рецензий.
На эту вышло три.
Зато какие.
Первая журналистка, вечером одного дня получив мою книгу (800 страниц убористого текста), на следующее утро уже сдала рецензию, уверенно объявив: «Всёнетак! Писателибылисовсемдругими! Этоманипуляция!»
В рецензии критик допустила несколько грубейших ошибок, доказывавших, что она прочитала только первые пять и последние пять страниц моей книжки, проигнорировав остальные 790. Так действительно легче спорить.
Следом вышла ещё одна рецензия, её написала самая любимая моя критикесса, Анна Наринская.
Каждые три года Анна Наринская считает своим долгом объявить, что писателя Захара Прилепина больше не существует.
Но в этот раз она вышла на новый уровень. Она написала рецензию на книгу, которую вообще не читала (чтоб не мараться), в рецензии книгу мою не упоминала (чтоб не было рекламы), и моего имени тоже не назвала (ещё чего).
Это высший пилотаж.
Наринская спокойно и чуть нудно повторила всё то, что до неё писали советские литературоведы и филологи: русские писатели — они про гуманизм, про маленького человека, про заблудших, униженных и потерянных.
Очень трогательно наблюдать, как люди, жизнь положившие на борьбу со всем советским, с легкостью необычайной берут из тех времён самое навязчивое и вульгарное: этот, к примеру, фарисейский гуманизм и вообще опрощение литературы, как таковой; и заодно, конечно же, воинствующий антиклерикализм, и сектантскую, верней РАППовскую уверенность в своей и только в своей правоте; ну и прочие наработки.
На самом деле, русская литература, как нам Пушкин завещал — она сразу про всё. Про свободолюбие и про преданность Родине и царю, про миролюбие и про войнобесие, про маленьких людей и про титанов, про любовь к Богу и богоборчество.
Русских писателей нельзя остричь как газон, чтоб всем они были по вкусу.
Я и не стриг. Я брал во внимание только одно: ту страсть, с какой русский литератор перемещался из светских салонов в места военных действий.
Об этом слишком мало писали до меня. Я просто восполнил филологический пробел.
Но отчего-то такой подход был воспринят почти как оскорбление: да как я мог.
Дмитрий Быков рецензии не написал, но ответил в своей разговорной колонке на одном из телеканалов. Он там сказал примерно следующее: напрасно Прилепин думает, что Пушкин и Лермонтов были бы с ним на Донбассе, нет, они с ним не были бы.
И всё. Никакой аргументации. Зачем аргументация, когда Быков сам по себе очень весомый аргумент.
Нет, друзья мои, но я же написал, говорю вам, 800 страниц убористого текста, там все ссылки, все цитаты, все высказывания приведены. Что вы можете сказать в ответ?
Да ничего они не собираются говорить в ответ. Они просто знают, что правда всегда на их стороне.
На фоне всех вышеназванных недавний мой любезный критик из «Независимой газеты» — Андрей Мельников, он ответственный редактор приложения «НГ-Религии», — выдавший рецензию на «Взвод», смотрится особенно ярко.
В частности, он пишет: «Захар Прилепин решил отнять у интеллигенции «наше все», то есть культуру, русскую классику, и призвать поэтов золотого века на патриотическую службу. Больше нет вольнодумцев, декабристов, фрондеров, политических забияк. Поэты затянуты в мундиры, выстроены повзводно и дисциплинированно отдают свой служивый долг Родине и государю».
Уважаемый Андрей, вы же читали книгу, зачем вы так незатейливо врёте?
В моей книге очень подробно рассматриваются вольнолюбивые периоды в жизни Пушкина и Петра Вяземского, декабристская деятельность Бестужева, Катенина и Раевского — десятки страниц этому посвящены.
Вы, верно, пишете свою рецензию для тех людей, которые не читали и читать не будут мою книгу?
Что ж, это достойно и, знаете, ново.
Далее наш Андрей пишет: «Некоторые фразы из прилепинской книги нет смысла комментировать, их хочется обвести красной ручкой и снабдить восклицательными знаками. Он берет эпиграфом к главе о полковнике Федоре Глинке несколько его поэтических строк и замечает: «Ода экспансии на все стороны – а то, что воин пал за тридевять земель, не вступает ни в какое противоречие с тем, что погиб он все равно за русский край. За русский край везде можно пасть; было бы место» (235). «Миловидный» и «мятущийся» Батюшков «последователен в одном»: в «следовании национальному родовому коду: войне» (310).»
Что я хочу спросить в ответ у ответственного редактора Андрея.
А что не так с Батюшковым? Он участвовал в трёх войнах, сам говорил, что ему «нравится военное ремесло», и предки его тоже воевали. Что вас возмутило? В чём моя ошибка?
Или про упомянутого вами Фёдора Глинку.
Отчего-то Андрей забывает упомянуть какие именно строки Глинки я беру эпиграфом. Давайте я ещё раз из приведу, раз такое недопонимание возникло.
Фёдор Глинка писал о русском солдате:
«Под тучами картечь и пуль наш друг был смел и бодр.
Струей дунайской раны он кровавы омывал;
По Альпам, выше грозных туч, с Суворовым всходил
И на гранитах шведских скал острил драгой булат,
Что вырвал из могучих рук кавказского бойца!
Он зрел брега каспийских вод и видел бурный Бельт,
В далёких был краях — и пал за близкий сердцу край:
За родину, за милую, за русский край святой…»
По поводу этих блистательных стихов я пишу в своей книге: «Ничего себе география. Ода экспансии на все стороны — а то, что воин пал за тридевять земель не вступает ни в какое противоречие с тем, что русский солдат всё равно погиб за русский край».
Зачем Андрей обводит мои слова красной ручкой, если он может обвести стихи Глинки с тем же успехом?
Или с Глинкой ему спорить не так сильно хочется?
На таких вот передёргиваниях вся статья Андрея из «Независимой газеты» и построена.
Он берёт мою цитату, выдёргивает из контекста, а цитаты из Чаадаева, Бестужева, Катенина, Дениса Давыдова, Державина или Пушкина — не приводит.
Потому что цитаты из их стихов, писем и песен выглядят на взгляд милого Андрея ещё чудовищней, и весь ложный гуманизм его добросовестной критической работы просто сметают.
И вот он спорит, спорит, спорит со мной, только со мной, исключительно со мной.
Не надо со мной спорить, Андрей. Спорьте с героями моей книги.
«Как я люблю, товарищ мой,
Весны роскошной появленье
И в первый раз над муравой
Весёлых жаворонков пенье.
Но слаще мне среди полей
Увидеть первые биваки
И ждать беспечно у огней
С рассветом дня кровавой драки» –
вот Батюшков, оспаривайте его.
А вот Пётр Чаадаев пишет:
«Нам необходимо обособиться… и русский народ, великий и мощный, должен, думается мне, не подчиняться воздействию других народов, но с своей стороны воздействовать на них».
Тоже, наверное, не согласны с ним?
А вот привет вам всем, любезные критики, от Александра Сергеевича Пушкина:
«Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.
Когда безмолвная Варшава поднялась
И ярым бунтом опьянела,
И смертная борьба <меж нами> началась
При клике «Польска не згинела!» —
Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда <разбитые полки> бежали вскачь
И гибло знамя нашей чести.
<Когда ж> Варшавы бунт <раздавленный лежал>
<Во прахе, пламени и> дыме,
Поникнул ты главой и горько возрыдал
Как жид о Иерусалиме».
Не обвели красным, Андрей, эти стихи?
Обведите и повесьте в рамочку.
Это вам всем привет, отныне и навек.