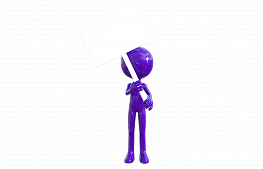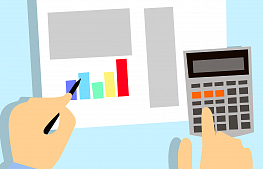






Черномырдин как часть речи
Из всех драматических героев только
у Шута есть возможность стать Джокером, то есть превратиться из персонажа в
рассказчика. И кого волнует, что драма превращается при этом в буффонаду, а все
остальные авторы, сценаристы, песенники и сказители — в шутов. Это уже детали,
которыми за их малостью можно и пренебречь.
Виктор Степанович Черномырдин стал
таким рассказчиком. Его избрала, чтобы говорить с нами эпоха. Можно долго
рассуждать, что эпоха нам досталась непервостатейная. Некузявенькая, правду
сказать, досталась эпоха. И говорила она на странном свихнувшемся наречии. Но
если времена не выбирают, то языки, на котором эти времена ведут свой диалог,
не выбирают и подавно.
Было ли что сказать этой эпохе,
говорящей по большей части на языке залоговых аукционов, разборок и повальной
распродажи бывших закромов совдеповской Родины?
Оказывается было. То есть то, что
осталось невыразимым на понятном без соплей и слов языке баблометания и
пацанских понтов, проговаривал Виктор Степанович. Вечная ему память! Мы и не
рассчитывали на такую доверительность, а слово — это, как известно, вылетевший
воробей. Он и кошке приятен. Покойного определённо ждёт бессмертие, ибо он
давно уже стал из отставного титулованного премьера, политика и хозяйственника
– частью речи. Помните у Бродского? «…и при слове "грядущее" из
русского языка выбегают мыши и всей оравой//отгрызают от лакомого
куска//памяти, что твой сыр дырявой.//После стольких зим уже безразлично,
что//или кто стоит в углу у окна за шторой,//и в мозгу раздается не неземное
"до",//но ее шуршание. //Жизнь, которой,//как даренной вещи, не
смотрят в пасть,//обнажает зубы при каждой встрече.//От всего человека вам
остается часть//речи. Часть речи вообще. Часть речи».
Бродский, когда писал это
стихотворение, был всё-таки необоснованно демократичен. Частью речи удаётся
стать далеко не каждому. Стать частью речи – это посложнее, чем стать
премьером. При этом знавали мы, к примеру, премьеров и поэффективней
Черномырдина. В том числе на ниве реформ. Тот же Косыгин, к примеру, задал тон
в инженерном отношении что к производственным механизмам, что к человеческим
душам. Однако, будучи инженером душ, Косыгин никакого следа в языке после себя
не оставил.
Косыгинская эпоха говорила не
человечьими словами, а на языке диаграмм и таблиц многочисленных статистических
учреждений, одно из которых воспето в бессмертном рязановском «Служебном
романе». Человека-винтика в косыгинскую эпоху по всем канонам развитого
дисциплинарного общества заменили на человека-циферку. То, что не переводилось
на язык цифр, выражалось на языке анекдотов. Анекдоты травили оцифрованные
косыгинские люди. Черномырдин плоть от плоти один из таких людей. И по
статусу не человек даже, а вочеловечившееся статистическое учреждение.
Однако Черномырдин останется в
памяти народной не поэтому. Он останется в ней не как цифирный человек,
возвышающийся, подобной жирафу, чья длинная шея составлена из цифирных
крючков-закорючек. Черномырдин войдёт в историю как пример литературного
эксперимента, в котором жанр сметы соединился с анекдотом. Мне могут возразить:
мол, все реформы Бориса Николаевича Ельцина были исполнены в этом жанре.
Спорить не буду, только добавлю, что анекдот из этого получился скверный. И
буду настаивать: роль Черномырдина всё ж остаётся особой: он не просто
соучаствовал в эпохе, но ещё попутно и рассказал её как этот скверный анекдот.
Запечатлел происходящее в слове, или, лучше сказать, подобрал те слова, которые
сами соучаствовали в происходящем.
Черномырдин был абсурдистским
поэтом, похлеще ОБЭРИУтов.
Плавные прежде длинноты,
канцелярские многозначительности и начальственные речевые суровости приобретали
в его языке характер пунктирного усечения и весёлой путаницы. Черномырдин –
безбашенный пытливый вивисектор, ставящий эксперимент на тараканьих телесах
бюрократического новояза – а что если ножки пришить вместо усиков? а что если
крылышки приладить вместо ножек? Очень быстро оказывается, что языковая
вивисекция равносильна телесной экзекуции. Цезуры в прежде пышнотелом
циркулярном новоязе равносильны следам от удара плетью. Черномырдин был
размашист. Он был новым сфинксом, загадывающим загадки. Загадки ранили своей
весёлой неразрешимостью.
Черномырдинский язык – это, в
каком-то смысле, страх и ужас чиновничьего люда. Этот язык — зеркало,
отражающее кромешный мир, где существует многовековая привычка обмениваться
головами, красоваться переставленными конечностями, крутиться колесом,
выворачиваться наизнанку, прирастать друг к другу внутренностями и при всём том
неимоверно гордиться собой и ходить гоголем. «Здесь Вам не тут!» — говорил
Черномырдин. «Тут Вам не здесь!» — отвечала эхом ему чиновничья братия.
Но не только зеркалом было
черномырдинский язык. Это было также явление спекулятивной речи, отошедшей от
прежней чинности, то есть от роли статусного атрибута, выражающего бдение и
радение, начальственный окрик и царственный рык. Речь Черномырдина – это
бюрократический новояз, ударившийся во все тяжкие. (Как ударились в рыночные спекуляций
чиновники всех рангов и гильдий, а вместе с ними – и вся страна). Спекулятивный
абсурдизм черномырдинского языка – непосредственный аналог бунта, формой
которого в 90-е годы прошлого века стал рынок. Аналог бунта ещё более
бессмысленный и уж точно – не менее беспощадный.
Оригинал этого материала
опубликован в Русском журнале.