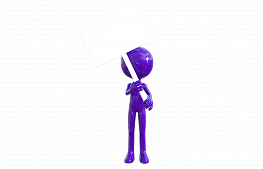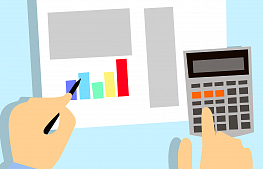






ЕОК, или Финал несостоявшегося диалога
Сначала в Казани, затем в Москве прошли слушания Европейского общества культуры (ЕОК). Странное это образование, которое удерживается при жизни исключительно за счет неукротимой энергии мадам Кампаньоло. Общество возникло в 1950 году, в разгар холодной войны, и его фундамент был заложен философом Умберто Кампаньоло. Кто только не был среди членов этой организации в разное время! И Сартр, и Томас Манн, и Мориак, и Матисс, и Шагал. От Советского Союза здесь сначала был официальный интеллигент Эренбург, тогда как позднее сюда через некогда знаменитое Общество дружбы с зарубежными странами командировались люди калибром поменьше, и по мере сил они отстаивали перед западными коллегами тезис о существовании мысли в советской стране.
Потом пришла перестройка, и в жажде приобщения к евроклубу мы не могли, разумеется, не ухватиться за протянутую из Венеции руку. Вчерашние советские варвары были в моде и, по российской наивности, готовы были трактовать простую учтивость как подлинную симпатию. Особо приятным казалось, что — в форме деликатного антиамериканизма — официальным языком ЕОК был исходно обозначен французский, что определило специфический отбор членства, вовлекавшего лишь тех среди британцев, немцев или американцев, кто практически готов возводить свои представления к классической традиции. И были встречи — в разных симпатичных местах. И темы встреч были все больше вполне возвышенные. И с каждым разом становилось все очевиднее, что диалог не получается. С западной стороны — отставные политики и все еще деятельные профессора, принципиально сохранившие приверженность логике и риторическим фигурам девятнадцатого века, как известно, протянувшегося в век двадцатый на добрые две трети. У них есть, разумеется, некий взгляд на нынешнее время, но это все люди, к компьютеру относящиеся с опаской и если его и использующие, то исключительно как нешумную пишущую машинку. Что бы они ни говорили, к примеру о взаимоотношениях культуры в ее классическом понимании с культурой массовой, это всегда элегантно по форме и никак не соотносится с сегодняшним днем с его проектной, проектным образом манипулятивной природой. С нашей стороны — по преимуществу такие же ретроспективисты. Но их существование отнюдь не поддержано ни солидными пенсиями, ни пристойным профессорским жалованьем и обусловлено исключительно потребностью в сохранении устойчивости самосознания и удвоенным трудолюбием, за счет которого по одежке наших никак уже не отличить.
Ну, и каков может быть смысл в диалоге подобного с подобным?
Смысл между тем обнаруживается уже через то хотя бы, что обмен репликами лишний раз высвечивает нетождественность жизненного опыта, который в конечном счете все же определяет восприятие тех же текстов и тех же изображений, так сказать, на вкус и цвет. Наши западные коллеги читали умные книги последовательно, по мере их выхода в свет, тогда как мы заглотали почти все сразу — в те странные годы конца восьмидесятых, когда у нас еще было время читать. Для них ужас перед Советским Союзом был реален, тогда как мы с обычным российским легкомыслием нисколько себе возможностью войны голову не морочили — даже тогда, когда, слушая "голоса" по-английски (английский долго не глушили), в целом в ситуации вполне ориентировались. Они пережили шок от "революции цветов" конца 60-х — нас, с дистанции, хиппизм скорее забавлял. У них слабая психика, настолько слабая, что западные знакомые никак не могли уразуметь, как это мы, не вешаясь на люстре, пережили утрату всех сбережений, инфляцию до 30% в месяц, а затем вторичную утрату денежек в 98-м году. Их деды и отцы похожее переживали, но это было так давно…
Они ворчат, но смирились — перед императивом слюнявой толерантности. Они ворчат, но смирились — перед наглой попыткой евробюрократов назвать Европой сугубо временное, политическое, разъедаемое червоточиной сомнения изнутри.
…Все было бы, как обычно: перекатывание разговора-мяча с более или менее эффектной элоквентностью. Однако один из российских коллег учинил легкий скандал, зачитав тщательно прописанный текст, не слишком убедительно объясняющий резоны, по которым он выходит из общества. Повседневно крутясь среди тех, кто так или иначе нашел себя в новой нашей ситуации, неизбежно забываешь о других — о писателях. О тех из них, кто не умел, потому что не хотел, или не хотел, потому что не умел, ни сочинять то, что сегодня читают, ни продавать свое умение в розницу по шоу-части. И не имеет в себе столь мощного содержания, чтобы преодолеть все.
Тем, кто так умело балансировал на грани между бытовым и деятельным успехом и фрондерством, тем, кому было уютно поехидничать или повозмущаться среди знакомых, в достаточно-таки терпимую эпоху 80-х, теперь особенно плохо. Худо им. Тем, на кого вместе с бедностью обрушилась куда более тяжкая штука — невостребованность.
Среди многочисленных моих знакомых есть очень немолодой человек. Некогда, будучи присяжным рецензентом профессионального издательства, я получил его рукопись с просьбой "разнести". Начал читать, оценил, настоял на издании. Потом было еще несколько книг, рафинированно интеллектуальных, бесстрашных перед лицом давних и нынешних авторитетов. Книги о столь удаленной от обыденности вещи, как разгадка тайн пропорционирования в искусстве. Так он и живет в глубоко провинциальной столице, на пенсию. С учтивым достоинством принимает помощь. Завершает исследование, столь утонченное по мысли, что я дал себе слово красиво издать его новую книгу, чего бы это ни стоило.
Я это к тому, что вскоре подлинного европейца, несущего в себе не только наследие великой культуры, но и характерное для нее агрессивное, мужественное начало, можно будет обнаружить исключительно в российских провинциальных столицах.
Оригинал этого материала опубликован в Русском журнале.