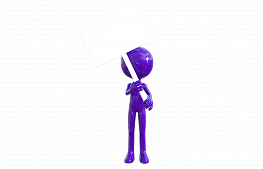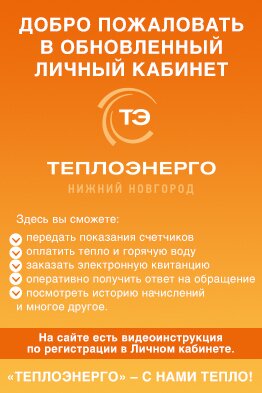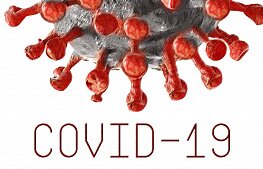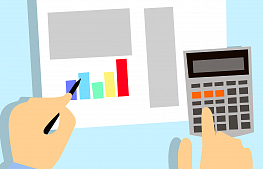






Главное — не делать необратимых шагов
17 марта правительство РФ одобрило подготовленный Министерством природных ресурсов проект нового закона «О недрах». До 17 апреля законопроект должен быть доработан, представлен в правительство и далее внесен на рассмотрение в Госдуму. Как известно, новая редакция закона, разработка которого ведется уже шесть лет, отменяет принцип «двух ключей», переводит взаимоотношения недропользователя и государства из административно-разрешительной формы в гражданско-правовую. Между тем, вокруг законопроекта идут ожесточенные споры, в которых участвуют и правительственные чиновники, понимающие, что закон «сырой» и требует доработки, и иностранные инвесторы, которым не по душе, что их допуск к российским недрам заметно ограничен. Между тем, по прогнозам аналитиков, принципиальных правок в проект закон вносить не станут, ограничатся редактированием.
Свое мнение о качестве законопроекта в эксклюзивном интервью сайту Glazev.Ru высказал Юрий Болдырев
— Глава Минприроды Юрий Трутнев заявил, что соглашение о разделе продукции (СРП) может применяться только в одном случае, если идет речь о разработке шельфа. «Во всех остальных случаях недропользователи должны платить обычные налоги», — указал Трутнев. Насколько такой подход способствует установлению цивилизованных отношений между государством и инвесторами (недропользователями)?
— Если этот подход будет не только продекларирован, но и реализован, это может пойти на пользу стране. И существенным здесь является не только объем налоговых отчислений. Не менее важна вся система взаимоотношений между недропользователем и государством, включая насущно необходимый нам, но до сих пор отсутствующий механизм контроля за реальными собственниками стратегически важных объектов, как это делают, например, в США.
Критически важно для нас также регулирование (ограничение) экспортного потока энергоресурсов в интересах своего государства и общества — в целях поддержания в нашей стране, с ее климатическими и географическими особенностями, цен на энергоресурсы, кратно более низких, чем на мировом рынке.
И, разумеется, необходимо связывание доступа к нашим природным ресурсам гарантированием заказов на оборудование отечественному машиностроению – вопрос ключевой, в немалой степени определяющий, на чье развитие, в конечном счете, пойдут наши ресурсы: на развитие государств и обществ, и без того уже нас обогнавших, или же на наше собственное развитие.
Пока, похоже, ничто подобное как стратегия развития топливно-энергетического комплекса и не планируется. Даже от имевшихся в законодательстве норм связывания доступа к нашим ресурсам заказами нашим производителям мы уже обязались при вступлении в ВТО отказаться. Но СРП при массовом внедрении перекроет сами возможности этого уже навсегда, в том числе, для наших детей, у которых, я надеюсь, здравого смысла, понимания реалий мирового развития, способности осознавать и отстаивать свои долгосрочные интересы будет больше, нежели у нас…
— Негативный опыт договорных отношений между государством и недропользователем, реализованный в рамках СРП требует объективной оценки готовности органов госрегулирования к процессу ежегодного заключения сотен — первых тысяч договоров? Вы наблюдаете такую готовность?
— Договорные отношения в принципе ничуть не хуже любых иных. А власть, как известно, всегда готова распорядиться чем угодно на любой, в том числе, договорной основе. Принципиально важно здесь одно: степень свободы власти построить эти отношения более или менее в интересах государства или, напротив, в личных интересах должностных лиц, принимающих решения.
Понятно, что эта свобода должна быть весьма и весьма ограниченной. Причем, не только при определении условий договора, но, что не менее важно, и при последующей, возможной, корректировке этих условий. В законопроекте о недрах в этом смысле, с моей точки зрения, налицо явный дефект: необоснованно упрощена процедура корректировки условий договора по предложению одной из сторон. А ведь мы это уже проходили с постприватизационными обязательствами: сначала обещаются золотые горы, затем «добрые» чиновники «входят в положение» и разрешают обязательства не исполнять…
— Кто является стороной в договоре от имени государства?
— Уполномоченный правительством орган, то есть, чиновники. Но опыт говорит о том, что свободу здесь недопустимо давать не только чиновнику, но даже и Правительству с Президентом. Вспомните известные манипуляции со списками стратегических объектов, не подлежащих приватизации и т.п. (кстати, и в этом законопроекте отнесение тех или иных ресурсов к числу стратегических полностью отдано на откуп Правительству). Не говоря уже об известных фактах прямого хищения бюджетных средств и фальсификации отчетности.
— Как избежать при таком количестве договоров неизбежных злоупотреблений?
— Как избежать? Это-то хорошо известно.
Во-первых, регламентация законом таких вопросов, как, например, утверждение методики определения стоимостной оценки месторождения. Ведь именно манипуляции с методиками оценки позволили в свое время чрезвычайно занизить стоимость активов при попытке приватизации Росгосстраха. Тем не менее, и новым законопроектом о недрах этот вопрос отнесен к компетенции неких уполномоченных правительством органов. Хотя другой, аналогичный по степени важности вопрос — о порядке формирования и ведения государственного кадастра участков недр — вполне обоснованно отнесен к компетенции законодателя.
Во-вторых, всеобъемлющий независимый контроль. В этом законопроекте опять налицо попытка прописать госконтроль как исключительно контроль внутренний, правительственный, что затем можно пытаться трактовать как недопустимость контроля внешнего, в том числе, парламентского. Кстати, подобные попытки были и десять лет назад – в законе «О соглашениях о разделе продукции». Тогда в согласительной комиссии нам удалось скорректировать закон, в том числе в этой части, благодаря чему позднее общество смогло получить объективную информацию о том, что же на самом деле творится на Сахалине.
В-третьих, жесткие санкции за нарушения или действия откровенно вопреки интересам государства. У нас же ни за сахалинские соглашения, ни за заведомое занижение стоимости активов, выставленных в 1995-м на «залоговые аукционы» (равно как и за сами эти, заведомо противозаконные «аукционы»), до сих пор никто к надлежащей ответственности не привлечен.
В-четвертых, надлежащая мотивировка госслужащих. И здесь на необходимом уровне не просто ничего нет, но в части мотивировки и кадровой политики, похоже, все делается в точности наоборот…
В условиях же, когда и следственные органы, и суды, и Парламент у исполнительной власти оказались практически ручными, никаких иных сдержек и противовесов, кроме «монаршей» воли не осталось.
Есть ли эта воля, можем ли мы рассчитывать хотя бы на нее? Печально, но факт: если бы нынешний правитель хотел всерьез наводить порядок, он бы не ограничивал подконтрольность обществу, например, Центробанка, а, напротив, расширял бы поле независимого общественного контроля за властью. Но этого нет.
— Предлагаемая Минприроды редакция закона «О недрах», представляющая набор гражданско-правовых и административно-правовых норм, абсолютно игнорирует предмет регулирования — структуру разведанных запасов и ресурсные перспективы государственного фонда недр. Кроме того, она не решает ни одну из реально существующих проблем в этой области — воспроизводства запасов, компенсации падающей добычи и, прежде всего, на уникальных и крупных месторождениях, полноты отработки разведанных запасов, обеспечения максимально возможной длительности отработки истощенных месторождений, имеющих большую социальную значимость, ввода в эксплуатацию низкорентабельных месторождений, применения новых, дорогостоящих технологий, продляющих жизнь месторождений. Прокомментируйте эту ситуацию…
— Предметом регулирования, с моей точки зрения, является и должна являться вовсе не структура разведанных запасов и не ресурсные перспективы государственного фонда недр. Предмет регулирования – взаимоотношения между недропользователем и государством, общие права и обязанности сторон, а также процедура определения прав и обязанностей сторон применительно к конкретным участкам недр и месторождениям.
Другое дело, что является целью такого регулирования? Обеспечение рационального — в интересах, прежде всего, нашего общества, большинства граждан страны — использования наших недр.
Решает ли одобренный Правительством законопроект эту важнейшую задачу? Разумеется, нет. Рациональное использование недр для нас — одна из, без преувеличения, фундаментальных задач. Но это — задача не только одного конкретного закона, но всей экономической политики. Ведь как экономно и рачительно ни извлекай из недр, скажем, нефть и газ, но если дальнейший приоритет Правительства – лишь их экспорт, причем, как можно больший по объемам, рациональным использованием недр такое проедание ресурсов вряд ли можно назвать.
Решает ли этот законопроект частные, скажем, «подзадачи», или компоненты общей задачи – то, о чем Вы спрашиваете? Может быть, недостаточно. Хотя и не без попытки к этому приблизиться. Например, предусмотрены возможности компенсации ущербов и штрафов за нерациональное недропользование, за «снятие сливок», влекущее уменьшение доли извлекаемых запасов из месторождения. Наверное, нужно вводить и иные меры стимулирования полноты отработки запасов и т.п.
Страдает законопроект и целым рядом как частных, так и концептуальных недостатков, возможные последствия которых столь же разнообразны, как и сами недостатки.
Например, органы государственной власти у нас теперь, оказывается, «владеют, пользуются и распоряжаются» участками недр. А я-то всегда думал, что органы власти лишь управляют госсобственностью (Правительство – по Конституции), используют ее и от нашего с вами имени распоряжаются ею. Владеет же исключительно собственник – Российская Федерация, а не ее органы власти, что, кстати, и зафиксировано в этом же законе выше. Скажете, мелочь? Но если мы с такой «мелочью» и ее закреплением в законах согласимся, то получится, что госсобственность превратится в собственность власти.
А как вам нравится такая формулировка: «владение, пользование и распоряжение (участками недр) с участием Российской Федерации…»? Что такое «совместное ведение» и «совместная собственность» я понимаю. Но что такое это «владение, пользование и распоряжение с участием»?
Ограничение по допуску к недропользованию иностранных компаний прописано тоже недостаточно последовательно. Так, применительно к СРП оговорен допуск иностранных юридических лиц. Но зачем? Если чтобы привлечь зарубежные крупные компании, то это самообман: на Сахалине работают не сами эти компании, а лишь учрежденные ими «оффшорки». Зачем они зарегистрированы в оффшорах, почему не у нас? Чтобы лучше уклоняться от налогов? Чтобы мы не могли контролировать реальных собственников? Чтобы вести документацию не на русском языке и прятать ее за рубежом? Чтобы не так заметны были сделки с афиллированными компаниями, например, по закупкам оборудования?
Дальше – больше. Оказывается, организатором аукциона «могут вводиться» ограничения на участие групп лиц с иностранным участием. Но почему «могут», а не установлены, и почему «организатором аукциона», а не государством — сразу и однозначно в норме закона?
Таким образом, исходно верная идея, соответствующая практике ряда развитых государств, включая США, тем не менее, размывается и профанируется.
Есть опасности и в связи с отнесением геологической и иной информации о недрах к собственности получившего ее недропользователя, при том, что использование этой информации государством в коммерческих целях (например, для изучения соседнего участка) должно определяться неким «договором». Это грозит нам появлением монополии недропользователей (крупных, в том числе, зарубежных сервисных компаний) на информацию о наших недрах, а значит, ограничением конкуренции недропользователей при доступе к разработке месторождений, а также потерей способности государства реально «держать руку на пульсе» наших недр. Более того, в соответствии с законопроектом, должностные лица органов власти несут ответственность за утечку, хищение, утрату, искажение, подделку информации о недрах, но про ответственность компаний-недропользователей и их руководителей, обязанных предоставлять эту информацию государству для формирования соответствующих банков данных, ничего не говорится…
В целом, что можно рассматривать как плюс законопроекта? Попытку установления большего государственного контроля за недрами, приоритет отечественного недропользователя или пользователя, зарегистрированного в России и действующего по российским законам (аналогично тому, как это установлено в США). Продекларированное, хотя и не нашедшее отражения в законе, предполагаемое ограничение СРП, с моей точки зрения, тоже плюс – по причинам, перечисленным мною выше.
Сразу заметные минусы законопроекта: абсолютизация договорных отношений и, что очень важно, отсутствие жестких ограничений по срокам действия договоров. Это дает власти право и возможность принимать решения с чрезвычайно долгосрочными последствиями и, соответственно, множит ущерб от возможных действий власти вопреки нашим долгосрочным интересам.
Что же касается еще одного, казалось бы, очевидного минуса законопроекта — ограничения прав субъектов Федерации, — так если субъекты ранее уже дружно сдались Центру и позволяют центральной власти фактически назначать в них власть, зачем же таким «сговорчивым», а точнее послушным, субъектам какие-то еще права в сфере недропользования? Какая Федерация, такие и права у субъектов…
— Несмотря на заверения чиновников, твердящих о приоритете допуска отечественных инвесторов к месторождениям, существует опасность потери национального режима в недропользовании и допуска «любых» денег. Ведь во главу угла при проведении аукционов ставится размер платежа, а другие критерии эффективности потенциального инвестора попросту игнорируются…
— Предлагаемый аукцион, то есть, конкурс лишь по одному переменному параметру, это, безусловно, благо. Как минимум, это ограничение абсолютного произвола при подведении итогов нашего прежнего и ныне все еще повсеместно распространенного «конкурса», когда мудрая комиссия на основе добротной коррупции сравнивает теплое с зеленым… Прочие условия, включая максимальное извлечение из недр сырья, «вклад в социально-экономическое развитие региона» и т.п., должны быть оговорены как безусловные требования к любому конкурсанту.
Что же касается «любых» денег, так, во-первых, вся приватизация проводилась у нас с категорическим отказом от какого-либо контроля за происхождением средств. И чем тогда только что «отмытые» средства лучше еще не «отмытых»? И, во-вторых, напомню, когда одного из ближайших сподвижников бывшего Президента прихватили в Швейцарии на отмывании через их банковскую систему «откатов» от знаменитой фирмы «Мабетекс», ремонтировавшей Кремль и другие заметные сооружения, швейцарская прокуратура так и не дождалась подтверждения со стороны российских коллег, что откаты за госзаказы, финансируемые из бюджета, в нашей стране противозаконны…
Таким образом, вопрос о криминальных деньгах в российской экономике, в том числе, в недропользовании, конечно, чрезвычайно актуален. Но этот вопрос выходит далеко за рамки законодательства о недрах и упирается не только в отсутствие надлежащего законодательства в целом, но еще и в такую элементарную и одновременно показательную вещь, как кадровая политика власти. Не припоминаете, кем у нас до сих пор верно служит Родине «швейцарский пленник», он же великий молчальник?…
— Какие же способы установления нормальных, выгодных для государства и его граждан, отношений в сфере недропользования вы видите?
— С учетом всего, сказанного выше, мне кажется, ограничить принятие долгосрочных решений, которые исправить будет уже невозможно никогда, в частности ограничить СРП, на нынешнем этапе – уже благо. Если, конечно, это будет реально сделано. На большее — при нынешней власти и нынешнем состоянии общества, эту власть сколько-нибудь контролировать не способного, — не рассчитываю.
Интервью взял Сергей Ткачук
Оригинал этого материала опубликован на «Глазьев.ру».