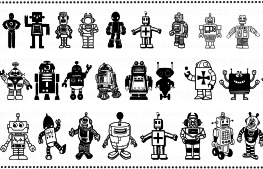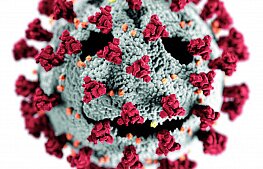Излишек Советов
Существует по меньшей мере два способа реконструкции логики советского суверенитета. Первый, претендующий на сколько-нибудь легитимную научную и политическую значимость, относится к этому суверенитету как к истории фальсификации. «Советы» фальсифицируются двояко — своей собственной процессией, как будто навсегда отдавшей карты в руки сторонников «открытого общества», и методологически, то есть предположением, что само представление Советов в качестве транзитного пункта (место которого определялось только в отношении к коммунизму) не более чем идеология, неуместная в компании таких трезвых, достопочтенных, буржуазно-юридических понятий, как «суверенитет». Актуальное политическое мышление наслаждается этим странным совпадением двух форм фальсификации. Это логический апофеоз советологии — единственной науки, систематически стремившейся к уничтожению своего объекта. Есть ли второй, альтернативный способ? Иначе говоря, не была ли «советская идеология» таким усложнением неприглядной действительности, которое избыточно по отношению к любой «функции» идеологии?
Обращая почерпнутую в марксизме критику идеологии на марксистское государство, отдавая все почести марксизму, но без его «телеологии», только подтверждаешь то, что пытаешься устранить. Именно этот идеологический избыток, предполагаемое «событие коммунизма», создает напряжение, которое невозможно объяснить, если учитывать только счастливое завершение фальсификации Советов. Иными словами, в Стране Советов даже то, что могло быть «всего лишь» идеологией, действовало иначе, поскольку именно эта страна сделала ставку на устранение идеологии и государства, которому она была бы в пору. Если суверенитет СССР несложно представить в качестве чего-то вполне заурядного (например, в качестве продления имперской политики объединения, трансплантологии трансцендентного тела царя), это еще не отменяет того уже почти неуловимого избытка, которым он действовал не только на свое окружение, но и на сам «дискурс» суверенности. Попробуем его определить — но не столько наметить границы, сколько усилить, преувеличить, как это всегда подобает, если имеешь дело с подобными излишками.
Исходным пунктом здесь можно считать то, что советский суверенитет оформляется в момент, когда единственным базовым языком отношения суверенитетов друг к другу и самого их конструирования стал язык экономики, то есть рынка с его императивами и постулатами. Советы же, утверждая свой суверенитет, одновременно утверждали необходимость деструкции этого языка — вместе со всем миром задававшихся им отношений. Этот поверхностный, само собой разумеющийся момент в действительности неустраним из логики советского суверенитета и одновременно достаточно сложен для анализа. Советский суверенитет говорил: «Я не буду накапливать сам себя, я сделаю так, что копить и беречь будет не нужно». Это суверенитет, который потенциально не только больше своих границ, но и больше собственного языка.
Избыточный момент советского суверенитета утверждался прежде всего тем, что он должен был бы стать единственным источником суверенитета как такового и, таким образом, устранить саму его проблему. После заката теологического суверенитета и его воплощения в теле короля (династии) единственным источником суверенитета стал народ. Но какой? Политически народ всегда существовал дважды — народ как источник суверенитета, который всегда от него уходит, и народ как «объект» суверенной инстанции1. Иными словами, апелляция к народу всегда вскрывала структуру суверенитета как «не своей власти», причем народ — это лишь то, что обеспечивает саму возможность ее присвоения. Советы — возвращение источника, снятие дихотомии народа и в то же время устранение самой проблемы суверенитета как некоего ограничения, локальности, которая всегда принуждена защищаться, ссылаясь на иное. Народ — это не нация, а Интернационал2. Это политический народ — в том числе созданный Гражданской войной. Полное возвращение суверенитета народа предполагает деструкцию любых форм представления и предоставления суверенитета, следовательно, деструкцию самой логики его «показа» и «признания».
Чудовищность советского суверенитета объяснялась не какими-то неведомыми его возможностями, а тем, что так никто и не узнал, что именно будет с народом, который идет на свое политическое определение, стирая свою собственную склонность к власти и склонность ее «отдавать». Суверенность всегда существовала в режиме «отданного». Труднее всего было помыслить этот итоговый народ как нечто радикально отличное от абсолютной власти, демонстрирующей свое превосходство и иногда предоставляющей ее во временное пользование. Иначе говоря, суверенность, вернувшаяся к народу (по крайней мере, в режиме долженствования, которым так легко пренебречь), не делает из последнего некоего абсолютного субъекта, полное присутствие, которое требовалось только для по сути своей антинародного суверенитета. Этот непредставимый3 народ, вернувшийся к своему политическому единству, не представляет собой ни «общества равных возможностей», ни «всеединства», ни тела Церкви, ни «легиона»4, ни даже абсолютного духа — все это, по логике Советского государства, не более чем способы отвлечения народа от самого себя, хотя народ «без дихотомии» не имеет себя в качестве горячо любимого субъекта. Поэтому предполагаемая советская суверенность быть не только «больше» любой другой (поскольку на сцену выходил единственный действительный суверен), но и в принципе иной — раз этот суверен не претендовал на признание со стороны других и самоутверждение за их счет. То есть раз он подрывал их экономию/сохранение.
Последнее демонстрируется «признанием суверенитета». Конечно, эмпирически «не признать» советский суверенитет с какого-то момента было невозможно в силу его «величины». Но так ли случайно соединение «величины» с суверенитетом, если учесть, что последний также всегда конструируется тем, что «больше его» (власть короля конструируется абсолютной властью Бога, власть выборных представителей конструируется гораздо большей властью демоса)? Суверенитет всегда структурировался как игра признания. Например, национальные государства «освобождаются», чтобы быть признанными в качестве суверенных, принять на своей территории законных представителей других государств и т.п. Иными словами, борьба за признание ведется как борьба за дефицитный ресурс, а сама суверенность оказывается чем-то, чего может не хватать, но что определено внутри позиционной системы. Суверенитет в этом случае — это то, что существует, например, в системе, контролируемой определенным гегемоном, то есть там, где имеется цепь признания одного другим, вплоть до того, кто задает всю систему. Но суверенитет СССР возникает не столько в качестве заявки на признание, сколько как «невозможность не признать», которая в то же время не тождественна позиции гегемона. Это новый суверенитет, для которого его признание лишь самое малое, что можно было сделать в целях его усмирения, «нормализации».
Исторически и социологически на момент возникновения СССР международные отношения суверенных государств представлялись не иначе, как в экономических терминах. Ведь и непосредственная сила, и предел существования, и аннексии истолковываются в качестве моментов экономического исчисления как принципа международной рациональности. Например, прямая оккупация может быть рациональна, если она не связана со слишком большими долгосрочными издержками, не предполагает слишком больших упущенных возможностей и т.п. Советский же суверенитет идеологически предполагал отрицание самой «рациональной грамматики» этих отношений как грамматики увеличения прибыли в ничем не сдерживаемой конкуренции. Советы — это деконструкция оппозиции международной экономической анархии (отсутствия безусловного и вынесенного за пределы системы гегемона) и институционально-бюрократического сверхрегулирования. Вся логика отношений СССР с другими суверенными государствами предполагала возможность конечной отмены хаотической максимизации прибыли.
Такая ситуация порождает две комплементарные формы советского суверенитета, обеспечивая в итоге и его «фальсификацию». Первая форма — это сверхинституциональность отношений со странами, потенциально сдвигавшимися в сторону социалистического выбора, а вторая — неизбежная деинституционализация в пограничных, неопределенных или откровенно враждебных регионах внешних отношений.
В первом случае можно говорить о создании на основе советского суверенитета невиданного по силе и долговременности международного режима, который, собственно, и фиксируется в терминологии «биполярного мира». Последнее выражение скрывает принципиальное отличие: советский режим был нацелен не на упрощение интеракций, которые в условиях его отсутствия не имели бы места или были бы слишком дорогостоящими, а на изменение самих этих интеракций, то есть на трансформацию их структуры и их агентов как «максимизаторов полезности».
Достаточно признанным можно считать утверждение, что устойчивый международный режим, необходимость которого обосновывается экономически, возникает не только при наличии гегемона, но и при наличии спроса на информацию, нормы и на снижение транзакционных издержек5. СССР обеспечивал удовлетворение спроса на информацию, нормы и снижение транзакционных издержек в такой степени, что в итоге эти рамочные условия и структуры должны были вытеснить те как будто субстанциальные процессы капитализации и извлечения прибыли, для которых они должны были (в норме) послужить. СССР от инструментальной трактовки международного режима перешел к трансцендентальной, причем это был трансцендентализм крайнего толка — ведь коммунизмом мог бы называться только переход к такому полному трансцендентализму, при котором, например, информация полностью отменяла рыночную хаотичность. Инструмент меняется местом с целью, если институция (в пределе — просто «символическое») заполняет все пространство и сама экономика начинает играть «служебную» роль. Понятно, что с точки зрения «нормальных» межгосударственных отношений вложения в подобный международный режим представлялись чистой тратой.
Между тем «трата» всегда служила в качестве показателя, меры суверенности, поэтому необходимо отличать суверенитет Советов от суверенитета просто излишнего, настолько уверенного в себе, что он может пойти на излишние траты. Форма трат традиционного суверена — демонстративность как основа для любого признания. Суверенитет питается своими тратами, что было очевидно уже Гегелю, поэтому любая претензия на построение экономики даров не оправдана, пока дары присваиваются в качестве достижений. Хотя все это присутствовало и в политике СССР (показная помощь бедным странам, например), сама форма внешних инвестиций СССР — тайные дары, то есть дары, которые скрываются именно потому, что похвальба ими вовлекала бы СССР в идеологически противоположную логику (например, логику благотворительности, помощи странам третьего мира, которые именно по причине этой помощи должны вечно оставаться в своем третьем — мало пригодном для жизни — мире). В известном смысле СССР стремился не обмениваться дарами, а утвердить невозможный дар6, который в принципе не возвращается. Это было возможно только в расчете на устранение самой экономики в тотально антиоппортунистическом международном режиме, постепенно покрывающем весь мир.
Бесконечность советских даров создавала условия для реализации государственной максимы «поступай так, чтобы сохранить возможность помощи в будущем от своих друзей, даже если сейчас так поступать тебе невыгодно». Но она оставляла возможность для весьма успешного (по экономическим критериям) оппортунизма именно потому, что вторая составляющая внешней реализации советского суверенитета требовала возвращения к практике «ad hoc». Примером последней могут служить современные программы вроде «Нефть в обмен на продовольствие» — то есть программы, единственным законом которых является чистая выгода, без каких бы то ни было пролонгаций, граничных условий, долговременных договоренностей и т.п. Любая договоренность приходит здесь вторым шагом после усмотрения непосредственной экономической выгоды, а не наоборот. По сути, первоначально именно так принуждено было вести себя Советское государство в достаточно враждебном окружении. Именно претензия советского суверенитета на воплощение чего-то «большего экономики» неизбежно возвращала его во внешних отношениях к логике «только экономики и ничего больше», то есть экономики в ее самом карикатурном и одновременно жестоком виде. И это же можно считать структурной возможностью и условием привлекательности оппортунизма, выразившегося в возвращении к «национальным» суверенитетам, которым не остается ничего, кроме как бороться за минимальное признание.
«Время» советского режима делает из СССР суверена идеологически высшего толка, то есть суверена, который делает ставку на несохранение самого себя, но, конечно, не такое несохранение, которое возвращает его в число «более-менее» равных «субъектов международного права». Это время «всегда еще не» — время события с рассрочкой, которая точно просчитана и не может растянуться до бесконечности. Приход коммунизма отличается от всех иных форм пришествия уже потому, что оно не является пришествием чего-то, чего нам не хватало в качестве нашей сущности, что бы там ни говорил ранний Маркс. Это пришествие отношений, которое не выполняется в силу «нормализации», распада выстраиваемой логики советской реципрокности, то есть заданной на неопределенное будущее взаимности отношений. На ее место заступают добродетели ad hoc, которые отныне структурируют пространство российского суверенитета — скорее реалистского, чем инструменталистского или либерального.
Последнее легко доказать множеством политических знаков, среди которых выделяется постоянное подчеркивание противоположности «дел» и «слов» (пустых обещаний, договоренностей и т.п.). Любые непосредственные взаимодействия, как теперь утверждается, гораздо лучше договоров, которые не выполняются (а любой договор создает структурную возможность собственного невыполнения, поэтому невыполняющийся договор — это хуже, чем отсутствие всякой договоренности). Именно их — своеобразные признаки братства помимо всякой бюрократии и институционализации — принуждены мы искать, не замечая того, что это лишь след большого оппортунизма — более мощного и фатального, чем его чисто экономическое определение, и в то же время меньшего, предельно малого в силу своей «нормальности», оправданности рыночным фундаментализмом. В том же самом следе располагаются идеологии реваншистского типа, изображающие былые достижения в ныне усвоенной логике «экономических возможностей» и «силы», как и идеологии «национальной нормализации», следующие за большим оппортунизмом в попытке устранить всякое остаточное влияние излишка советского суверенитета.
Примечания:
1 См., например: Agamben G., What is a People // Means Without End: Notes on Politics (Theory Out of Bounds), University of Minnesota Press, 2000, p. 29-36.
2 Наиболее элементарный пример: именно «Интернационал» становится первым гимном советского государства.
3 В конце концов, чем еще является творчество таких писателей, как А.Платонов, как не попыткой изобразить это «непредставимое» — коммунистический народ?
4 См.: Вяч. Иванов. Легион и соборность // Родное и вселенское, М., 1994, с. 96-101.
5 См.: Keahane Robert O., The demand for international regimes // International Organization 36, 2, Spring 1982, pp. 325-355.
6 Проблема возможности дара исследована, в частности, в работе Derrida J., Donner le temps, 1. La fausse monnaie, Editions Galilee, 1991.
Оригинал этого материала опубликован в «Русском журнале».