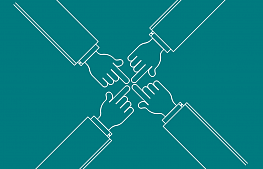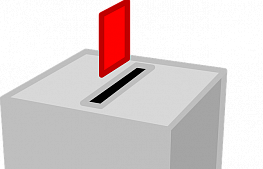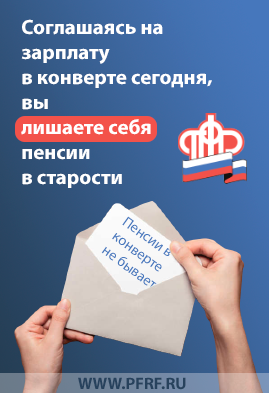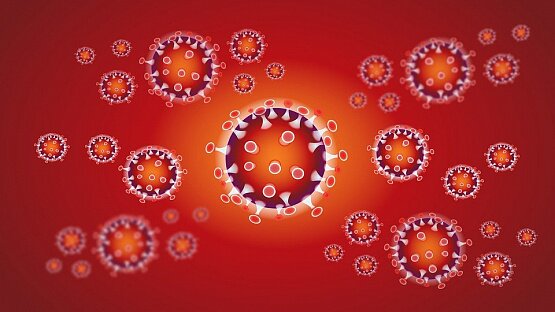Мифы о русском характере
Комплексы образованного общества
К XIX веку образованные сословия
России, воспитанные на иллюзии «русского Запада», были отчуждены от остальных
сословий системой экзистенциальных преград, представляли собой своего рода
народ в народе. Поэтому суждения образованного общества о русском национальном
характере преломлялись через призму неорганичного, экзистенциального статуса,
отражали отношение интеллигенции к народу, а также её рефлексию по поводу
собственной исторической роли.
Всякая культура произрастает из
национальных корней – эта тривиальная истина к XIX веку была забыта
русским образованным обществом. Великая культура не может существовать без
открытости другим культурам, общечеловеческому. Но жизненные соки и материю
воплощения, язык выражения, актуальные темы и задачи культура получает из
национальной почвы. Абсурдно было бы представить немецкую культуру, созданную
на английских и французских заимствованиях. Но русское образованное общество
именно так и видело русскую культуру. Более того, отечественной культуре
рекомендовано было всеми силами уподобляться европейским образцам.
Светская культура в России со
времён Петра I созидалась вне национальной почвы. Мировоззрение образованных
сословий в России покоилось на двух мифах. Миф лжеевропеизма (выражение Ф.М.
Достоевского), или иллюзия «русского Запада», утверждал, что западноевропейская
культура является единственно возможным вариантом человеческой культуры.
Поэтому остальные народы в той степени перестают быть варварами, в какой
заимствуют европейские культурные образцы. При этом европеизированное русское
образованное общество имело о европейской культуре поверхностное мнение,
заимствовало в первую очередь модные европейские предрассудки и заблуждения.
Второй миф – об отсталости азиатской России, которая никогда не имела
культурной самобытности, поэтому должна выравниваться по западноевропейским
стандартам. Как во всех мифах, есть в них доля правды, но сильно преувеличенная
и искаженная. Поэтому для русской интеллигенции и «народа-то нет, а есть и
пребывает по-прежнему всё та же косная масса, немая и глухая, устроенная к
платежу податей и к содержанию интеллигенции; масса, которая если и даёт по
церквам гроши, то потому лишь, что священник и начальство велят» (Ф.М.
Достоевский).
Культурная отсталость молодого
русского народа объясняется трагической русской историей. Но основным
виновником отсталости народных масс в России были образованные сословия, с
петровских времён закрепостившие крестьянство и разорившие органичный уклад
остальных сословий: купечества, посада, священства. Вместе с тем культурная
отсталость России преувеличивалась образованным обществом. Самобытная русская
православная культура была неуловима для тех, кто принципиально отрицал её
наличие. Русская культура вбирала влияния Запада и Востока, в частности
Византии, христианского мировосприятия и верований, быта славянского язычества.
Она отражала географическое и климатическое разнообразие огромных евразийских
пространств, созидательное общежитие множества народов, дисциплину и
напряженный труд мощного государства. Но основным созидательным началом русской
культуры являлись самобытный национальный характер, творческая воля и
одарённость русского народа.
Начиная с петровских времён,
культура образованных слоёв была отчуждена от органичной русской православной
культуры, которая осталась запечатленной в творческих достижениях прошлого, дух
которой сохранялся в церковной жизни, в народных массах. Поэтому образованному
обществу в России фактически были недоступны и неизвестны самобытность низших
сословий и их характер. Попытки понимания национального характера оказывались
бесплодными из-за пропасти, разделявшей народ и образованные слои, в результате
простонародью приписывались собственные болезни и пороки.
Так, например, Николай Бердяев
писал: «Основные особенности русской духовной, преимущественно умственной
культуры XIX века могут быть сведены к четырем чертам: беспочвенность,
свободолюбие, радикализм и эсхатологизм». Высказывание Бердяева является
характерным примером иллюзии «русского Запада». Это самохарактеристика преимущественно
умственной культуры, отчуждённой от культуры общенациональной и потому
беспочвенной. Интеллигентское сословие со времени зарождения в конце XVIII века
ощущало собственную беспочвенность, но не вполне сознавало её.
Беспочвенностью образованные люди могли гордиться. Свободолюбие
беспочвенной культуры характеризовалось отсутствием национальных обязанностей.
Дворянское сословие со времён Екатерины I не чувствовало долга перед народом, но
имело все возможные привилегии и права, поэтому не знало подлинной свободы. Это
свободолюбие было абстрактным и приземлённым одновременно. Представление
о свободе было внерелигиозным, ограничивалось социальными и политическими
формами. Радикализм умственной культуры коренится в неорганичности
происхождения, в отсутствии исторического назначения, в инстинктивных попытках
вырваться из ложного экзистенциального положения. Эсхатологизм этой
культуры противоположен христианскому, так как являл собой безблагодатное
апокалиптическое отчаяние и безысходность. Выход из экзистенциальной
беспочвенности виделся в апокалиптической катастрофе, ибо умственная
культура лишена эсхатологического завершения и воскресения.
Русская интеллигенция несла в себе родовую
болезнь послепетровских образованных сословий. Судорожные поиски национальной
органики и отрыв от неё порождали мучительные народнические комплексы,
которые не вполне сознавались, но вплетались в самовыражение интеллигенции:
1. Острое ощущение ложности своего экзистенциального
положения, исторической безродности, оторванности и никчемности. В типе лишних
людей эта болезнь принимает форму социальной и духовной депрессии,
настроения безысходного пессимизма.
2. Чувство исторической вины
культурных слоёв перед народом, но без осознания этой вины. Поэтому тип кающегося
дворянина – это болезненно истерическая фигура, реально не приблизившаяся к
народу.
3. Ощущение того, что существует
некая неведомая и недоступная культурным людям народная истина, поиски которой
заканчивались тем, что в народе видели отражение собственных болей и проблем. В
комплексе псевдонародности коренится мощная народническая традиция, принимающая
различные формы.
4. Порыв искупить свою историческую
вину служением народу тоже проистекал из экзистенциального эгоизма
интеллигенции. Славянофилы требовали освободить народ от крепостничества,
западники – от общины, радикалы – от самодержавия. Консервативные же слои
предлагали рецепты защиты народа от всего остального, от пагубных идей
Запада, от социализма, от растления культурой и образованностью. Формой защиты
консерваторы считали то, что другие предлагали уничтожить в первую очередь:
крепостничество, общину, самодержавие. В переплетении прозрений и заблуждений
ближе к истине были славянофилы, но и они не свободны вполне от грёз и иллюзий
больного сознания русского образованного общества.
5. Непреодолимое стремление
интеллигенции войти в народ, соединиться с народом, чтобы либо
научиться у него натуральной и органичной жизни и разделить её, либо образовать,
окультурить народ, обучить его новым освободительным и прогрессивным
идеям. Эти комплексы были движителями хождения в народ, героического, но
слепого, которое было обречено на неудачу и на уроках которого учились уже
последующие «ходоки» – революционеры, поработившие народ.
6. Наряду с этим образованным слоям
присуще агрессивное или презрительное отчуждение от народа, нежелание не только
понять народ или служить народу, но и думать об этой проблеме. Эта
болезненная защита от экзистенциальной боли, попытки отвернуться от
кровоточащей раны выразились и в снобизме аристократии, дворянства, и в
снобизме иного рода у нигилистов.
7. Комплекс национального
самоуничижения интеллигенции подменял социальное покаяние. В обществе было
хорошим тоном заискивать перед всем западным и стыдиться всего отечественного.
Интеллигенции явно недоставало чувства национального достоинства, что неизбежно
при отсутствии бытийной укоренённости. Сословия, потерявшие родину в России и
не приобретшие родину на Западе, оказались на задворках культуры, десятилетиями
вынуждены были жить заимствованиями. Причину собственного уничижённого
положения они видели в рабьем русском характере и отсталой азиатской
России. В этой подмене и проекции на народ собственного больного состояния
тоже выражалась попытка избавиться от экзистенциальной боли.
Все комплексы образованных слоёв
являют собой болезненную реакцию на ложное экзистенциальное положение. Они
могли соединяться, могли проявляться раздельно и выглядеть антагонистическими.
Из-за родовой болезни и ложного статуса попытки обращения к народу были
обречены на неудачу. Но эта непреодолимая, хотя искаженная тяга к народу
свидетельствовала о стремлении культурных слоёв к оздоровлению. Весь XIX век
общество так или иначе волнует этот вопрос, эта боль. И в болезненном состоянии
душа русского культурного человека оставалась русской. В аналогичных
обстоятельствах европейские культурные слои не были склонны к народническим
комплексам.
Экзистенциальная боль русской литературы
Российское общественное мнение начиная
с XIX века судит о национальном характере русского народа не по реальной
истории, а по художественной литературе и публицистике. Общепринятым стало
мнение, что герои русской литературы выражают типы национального характера.
Причины этого кроются и в самоощущении литераторов, и в общественном мнении. У
художественной литературы свои творческие задачи, не совпадающие с
потребностями изображения «реальной» жизни. Однако это не мешало самим
писателям полагать, что они изображают вполне «реальную» жизнь. С другой
стороны, общество было образовано в традиции культуры «русского» Запада,
поэтому могло судить о российской истории и национальном характере через призму
своих иллюзий и мифов.
Русская литература XIX века была
шире потребности экзистенциального самоутверждения культурного сословия.
Великая литература была ответом на вечный зов творчества, что не мешало
литературе выражать экзистенциальную заботу образованного общества.
Художественная литература выражала не столько проблемы русского народа, сколько
проблемы образованных слоев, отражала не самоощущение народа, а попытки
самосознания культурного общества. Поэтому дворянскую литературу нельзя
воспринимать как исторически-реалистическую, изображающую эпоху, ибо вне её
поля зрения оказались целые пласты русской жизни и истории: быт различных
сословий, православные традиции, развитие мощной государственности, колонизация
и цивилизация огромных суровых пространств.
«Психология русского народа была
подана всему читающему миру сквозь призму дворянской литературы и дворянского
мироощущения. Дворянин нераскаянный – вроде Бунина, и дворянин кающийся – вроде
Бакунина и Лаврова, все одинаково были чужды народу. Нераскаянные – искали на
Западе злачных мест, кающиеся – искали только злачных идей. Нераскаянные
говорили об азиатской русской массе, кающиеся – об азиатской русской монархии,
некоторые (Чаадаев) – об азиатской русской государственности вообще. Но все они
не хотели, не могли, боялись понять и русскую историю, и русский дух» (И.Л.
Солоневич). Необходимы своего рода психоанализ и духоанализ русской литературы.
В проекции социальной психологии литература даёт характеристику типов
образованного человека и образ простого человека, который измышлял себе человек
образованный. Поэтому по русской литературе нельзя изучать характер времени и
характер русского народа.
Герои русской литературы – это
образы не реальных людей и отношений, а отражение проблем, которые мучили
образованное общество. Эта литература не натуралистическая и не реалистическая,
а экзистенциальная. Если западные писатели изображали по преимуществу то, что
видели, то русские описывали то, что чувствовали. Русская литература изображает
внутреннюю судьбу автора, историческое положение и статус его сословия, его
место в истории и культуре своего народа, а только затем – отношение автора к немым
и несмысленным (по характеристике Бердяева) слоям населения. Внутренняя
жизнь немых сословий во многом осталась тайной для русской литературы.
Разгадка народной тайны заботила всю русскую умственную культуру и
поэтому – литературу.
В свете экзистенциальной заботы
образованного общества можно определить больные вопросы русской
литературы:
1. Обретение и осознание
образованным обществом собственного исторического места и статуса.
2. Проблема народа, к
народу и в народ – попытки осознать историческую вину и поиски путей
искупления.
3. Попытки вернуть родину земную –
соприкоснуться с традиционной отечественной культурой.
4. Стремление вспомнить о родине
Небесной: поиск христианских истоков культуры, абсолютных духовных устоев и
незыблемых нравственных ценностей, актуальные ответы на вечные вопросы.
На высоте этих вопросов литературе
открывалась основная духовная трагедия эпохи – нашествие духов ложной
социальности (духов злобы поднебесных, мироправителей тьмы века сего) на
Россию, миссия России в борьбе с новыми формами мирового зла.
Это основные грёзы русской
литературы, в которых она разделяла многие заблуждения образованных слоев. Но
русская классическая литература смогла вырваться из экзистенциальных пут
сознания образованного общества. Она совершила первый шаг, но в нем стала
великой и непревзойденной, и этим – литературой подлинно русской. Русская умственная
культура через классическую литературу к XX веку сумела обнаружить симптомы
собственной болезни, но не смогла поставить ей полный диагноз и предложить
средства избавления. Она вырвалась к духовным реальностям и прикоснулась к
религиозным основаниям национальной культуры. Но прикоснулась робко, что
вызвало «головокружение» культуры, которое проявилось в начале XX века в
двойственности и подменах, характерных для писателей религиозного ренессанса.
Русская литература содержит смесь
гениальных прозрений и пророчеств с расхожими заблуждениями времени. Её
прозрения – в беспрецедентном для европейской литературы прорыве к христианским
истинам о Боге, человеке и мире. Основным же заблуждением русской литературы,
обусловленным экзистенциальным статусом писателей, были недостаточное знание
душевной жизни и духовных корней народа, неумение увидеть своеобразные его
достоинства и приписывание ему собственных недостатков. «Иван Солоневич
сделал горький упрек русской литературе в том, что она просмотрела Россию. Если
бы кто решил узнать Россию по русской литературе и для того перечитал бы всех
тех писателей, кого принято называть классиками, – его усердие, конечно же,
было бы вознаграждено многими вдохновенными страницами. Но что же бы узнал сей
читатель о сей стране?! Он узнал бы о “лишних людях”, о “мертвых душах”, о
“героях нашего времени”, о “темном царстве”. Но где же “живые души”, где “не
лишние” люди? Кто строил это великое государство, кто защищал его, кто молился
за него? Кто полагал душу свою за Веру, Царя и Отечество? Как это ни печально,
но из русской литературы мы не узнаем Православной России, не узнаем её
сокровенных молитв, её “жизни во Христе”, её духовных подвигов, её праведников.
Русская литература не воспела осанну Богу за все Его милости и щедроты,
ниспосланные нашему возлюбленному отечеству. (Конечно, были Достоевский,
поздний Гоголь, Лесков, Аксаков. Но они оставались отдельными голосами. Хор пел
другую партию.) Сколько страниц потрачено на упражнения в социальной критике,
сколько сил положено на обличение пороков и вскрытие язв, сколько желчи и
претензий к родной земле. “Ты и могучая, ты и бессильная”. Но писали больше о
“бессильной” и “немытой”. Русская литература тяжко согрешила ропотом. Чего
стоит один вопрос “Кому на Руси жить хорошо?”. Во многом именно литература
создала образ России как “темного царства”, населила её “держимордами”,
построила в ней “город Глупов”. Такую “отсталую европейскую провинцию”
оставалось только европеизировать революционными средствами. Свет России
православной был увиден только тогда, когда Русская земля оказалась “за
шеломянем еси”. На неё пришлось уже оглядываться, смотреть с других берегов.
“Что имеем – не храним, потерявши – плачем” – эти пушкинские слова Шмелев
обращал к русской эмиграции. “На реках Вавилонских седохом мы и плакахом”»
(свящ. Геннадий Беловолов).
О характере русского народа
отечественное и зарубежное общественное мнение судило по тому, что высказали на
этот счёт русская художественная литература и публицистика, которые
воспринимались как достаточный источник. Поэтому все, что принято вычитывать в
литературе и публицистике о характере русского народа, нуждается в ревизии и
преломлении.
«Великий писатель Толстой
утверждал, что мужик в реальности никогда не говорит так, как он говорит у
Горького: его-де речь туманна, запутана и пересыпана всякими таво да тае… Мужик
же говорит в разных случаях по-разному. Разговаривая с барином, которого он
веками привык считать наследственным врагом, мужик, естественно, будет мычать:
зачем ему высказывать свои мысли? Отсюда и возник псевдонародный толстовский
язык. Но вне общения с барином – речь русского мужика на редкость сочна,
образна, выразительна и ярка. Этой речи Толстой слыхать не мог. Он, вечный
Нехлюдов, всё пытался как-то благотворить мужику барскими копейками – за счёт
рублей, у того же мужика награбленных. Ничего, кроме взаимных недоразумений,
получиться не могло… Толстой – самый характерный из русских дворянских
писателей. И вы видите: как только он выходит из пределов своей родной,
привычной дворянской семьи, всё у него получает пасквильный оттенок: купцы и
врачи, адвокаты и судьи, промышленники и мастеровые – всё это дано в какой-то
брезгливой карикатуре. Даже и дворяне, изменившие единственно приличествующему
дворянскому образу жизни – поместью и войне, – оказываются никому не нужными
идиотиками (Кознышев). Толстой мог рисовать усадьбу – она была дворянской
усадьбой, мог рисовать войну – она была дворянским делом, но вне этого круга
получалась или карикатура, вроде Каренина, или ерунда, вроде Каратаева… Толстой
сам признавался, что ему дорог и понятен только мир русской аристократии. Но он
не договорил: все, что выходит из пределов этого мира, было ему или
неинтересно, или отвратительно. Отвращение к сегодняшнему дню – в дни
оскудения, гибели этой аристократии – больше, чем что бы то ни было другое,
толкнуло Толстого в его скудную философию отречения… Трагедию надлома
переживала вся русская литература. И вся она, вместе взятая, дала миру
изысканно кривое зеркало русской души… Грибоедов писал своё “Горе от ума”
сейчас же после 1812 года. Миру и России он показал полковника Скалозуба,
который “слова умного не выговорил сроду”, – других типов из русской армии
Грибоедов не нашел. А ведь он был почти современником Суворовых, Румянцевых и
Потемкиных и совсем уж современником Кутузовых, Гаевских и Ермоловых. Но со
всех театральных подмостков России скалит свои зубы грибоедовский полковник –
“и золотой мешок и метит в генералы”. А где же русская армия? Что – Скалозубы
ликвидировали Наполеона и завоевывали Кавказ? Или чеховские “лишние люди”
строили Великий Сибирский путь? Или горьковские босяки – русскую
промышленность? Или толстовский Каратаев – крестьянскую кооперацию? Или,
наконец, “мягкотелая” и “безвольная”русская интеллигенция – русскую
социалистическую революцию?.. Литература есть кривое зеркало жизни. Но в
русском примере эта кривизна переходит уже в какое-то четвертое измерение. Из
русской реальности наша литература не отразила почти ничего. Отразила ли она
идеалы русского народа? Или явилась результатом разброда нашего национального
сознания… Русская литература отразила много слабостей России и не отразила ни
одной из её сильных сторон… Мимо настоящей русской жизни русская литература
прошла совсем стороной. Ни нашего государственного строительства, ни нашей
военной мощи, ни наших организационных талантов, ни наших беспримерных в истории
человечества воли, настойчивости и упорства – ничего этого наша литература не
заметила» (И.Л. Солоневич).
На это можно было бы возразить, что
литература и не ставила задачу давать картину действительности и описывать
русские идеалы, ибо у художественного творчества не реалистически-исторические,
а духовно-экзистенциальные задачи. Скажем, Грибоедов не стремился в Скалозубе
описать господствующий тип русского офицерства. Но то, какой материал
использует литература, то, что она берёт из действительности для выполнения
собственных задач, говорит о том, как литераторы относятся к современной им
действительности, что видят в ней и чего не хотят видеть, что считают главным,
а что второстепенным. Принцип отбора материала и выстраивания образов отражает,
хотя и опосредованно, отношение художника к действительности. То, что
Грибоедову для построения образа в произведении понадобился именно такой облик
русского офицера, как Скалозуб, говорит не о том, что других в его время не
было или он их не видел, но о том, что литература, в лице Грибоедова в
частности, была внутренне сориентирована это увидеть и так изобразить.
«Вот Гончаров – писатель первого
ряда, человек не чуждый героизма, по собственной инициативе совершивший
кругосветное плавание, откуда возвращается с Дальнего Востока сухим путём через
всю Россию. В своих Записках он с восхищением описывает встреченных им русских
людей (офицеров, чиновников, купцов, землепроходцев). Все они сплошь – герои.
Однако по возвращении он пишет не о них, а о диванном лежебоке Обломове,
человеке в высшей степени лишнем… Не Штольц герой Гончарова, а ведь по пути с
Дальнего Востока в европейскую Россию он восхищался штольцами… Антон Чехов
бездельником не был, хотя и не был героем. Он был хорошим врачом, трудолюбивым
журналистом, изумительно тонким и работоспособным литератором. Но и этот
великий мастер рассказа выводит в своих сочинениях бесчисленное количество
бездельников. А ведь его героями должны были бы стать его коллега Ионыч или
принадлежащий к его категории просветителей трудолюбивый Беликов! У нас
достойными внимания оказались те, кто в литературах других стран был
маргинализирован самой литературой, не говоря уже об их маргинализации
обществом. Из русских литераторов XIX века только у Лескова маргиналы не в
центре внимания. Вот Лесков и остался для всех чужим: для левых и правых, для
традиционалистов и реформаторов, для революционеров и архиереев. Однако в
русской жизни героев было сколько угодно! Генерал Ермолов и Петр Столыпин,
Муравьев-Амурский, Кауфман-Туркестанский – можно называть множество имен из
всех сословий… Героев хватало, но о них не писали; между тем страна процветала»
(В.Л. Махнач).
Сверхкритическое и сатирическое
преломление действительности было потребностью русской литературы. Почему
писатели так относились к действительности, что отражали её кривозеркально? Как
и всякое художественное творчество, литература не призвана правдиво отображать
эмпирическую реальность, но она не призвана и искажать её, она не обязана быть
зеркалом реальности, но не должна становиться и кривым зеркалом. Художественное
творчество движимо поисками новых образов, новых ценностей, то есть, в конечном
итоге, новых идеалов своего времени и своего народа. Какие идеалы искала
русская литература, и как она это делала, что превратилась во многом в
превратное отображение современной ей действительности? У многих русских
писателей в том, что касается темы своего народа и своего времени, чувствуется
некий болезненный надрыв, идущий вразрез с внутренним назначением, творческим
беспристрастием и нравственной взыскательностью литературы.
Действительно, если воссоздать
образ русского простонародного человека по художественной литературе, то
получится очень приземленный, примитивный тип, преисполненный лени, лукавства,
двоедушия… Подобные качества можно было найти среди реальных людей, у
простонародья были свои пороки. Но они были усугублены двухвековым рабством у
дворянства, чьи наследники и пытаются «понять» народ. Школа рабства не могла не
сказаться отрицательно на национальном характере и творческих дарованиях
народа, что видно при сравнении характера и культуры свободных крестьян
Русского Севера и закрепощенного крестьянства средней полосы России. Понять и
правдиво отобразить черты национального характера невозможно без понимания их генезиса.
Попытки познания русского характера
преломлялись через комплексы «русского Запада». Поэтому, с одной стороны,
сопровождались боязнью и подозрительностью к простонародью, болезненным
чувством вины перед ним, с другой же – необоснованными претензиями и
обвинениями. И только некоторым творческим гениям удавалось вырваться из экзистенциальных
пут сознания. Пушкин, Достоевский, Лесков, Аксаков, Островский сумели
прикоснуться к тайникам души простого человека. Описание же простонародного
характера у Тургенева, Толстого и Чехова иногда отдаёт пародией. О Гоголе речь
не идёт, у него были иные задачи.
Если литература не смогла уловить
душевную жизнь крестьянина, ремесленника, купца, открывателя новых земель,
отражала ли она идеалы и духовную жизнь народа? О том, что души мычащих масс
преисполнены богатой и драматичной жизни, свидетельствует современная русская
литература, которая в этом измерении превзошла русскую классику. Необычайную
интенсивность и разнообразие внутренних переживаний простого человека с
захватывающим мастерством описывают Солженицын, Астафьев, Распутин, Белов,
Быков, Абрамов, Шукшин. И, наверное, внутренняя жизнь русского крестьянина XIX
века по богатству не уступала подсоветскому крестьянину, подвергшемуся геноциду
и колхозному рабству.
Русская классическая литература не
отразила также и характер образованного человека во всем его многообразии, ибо
была занята болью образованного общества. В результате искаженной рефлексии
культурные сословия переставали понимать самих себя. «Со страниц великой
русской литературы на вас смотрят лики бездельников» (И.Л. Солоневич).
Милые люди преисполнены глубоких мыслей и переживаний, но зависающих в
искусственной атмосфере, ибо нет у них врожденных обязанностей, долга
созидательного труда. Они могут что-нибудь начать «делать»: управлять имением,
как толстовский Левин, пахать, как сам Толстой. Могут ничего не делать, как
подавляющее большинство литературных персонажей, и при этом страдать от
понимания, что делать что-либо в их ложном положении бессмысленно (Обломов).
Если кто-то одержим делом, то фрагментарная деятельность носит характер мании,
как у Базарова. Является ли это характеристикой русских образованных слоев,
которые, с одной стороны, создавали уникальную научную и художественную
культуру, отстраивали хозяйственную и государственную жизнь России, с другой –
энергично разрушали устои? Это образ роковой болезни русской умственной
культуры и образы больных ею.
Русский народ, создавший самую
мощную государственность в мировой истории, предстаёт в русской литературе
антигосударственником. В.В. Вейдле в «Мыслях о русской душе» говорит, что
литература отразила антигосударственные инстинкты народа: «“Для русской
литературы губернатор, околоточный, делопроизводитель – либо исчадия ада, либо
человеческие существа, начисто изъятые из того мира, к которому они принадлежат
по должности. Толстой ненавидит суд, Салтыков администрацию, Чехов терпит лишь
тех профессионалов, которые не терпят своей профессии”. И доныне многие
считают, что русское “государство изначально противостоит русскому человеку
как нечто враждебное и на него, как на врага, не распространяются моральные
запреты: его можно обманывать, у него можно красть; обещания, данные
государству, можно не выполнять. С ним можно бороться разными способами”» (К.
Касьянова). Это описание интеллигентского, а не народного отношения к своему
государству.
В русской литературе невозможно
найти характеристику эпохи и народа. Понятно, что у художественной литературы
свои задачи, что русская литература была более всего занята болью дворянской
культуры. Беда в том, что зарубежное общественное мнение и самомнение русской
интеллигенции полагают, что русская литература полно и адекватно отразила
уродливый характер русского человека. Вернее, образованное общество в России полагало,
что национальный характер можно изучать по русской литературе, и эта установка
была воспринята западным общественным мнением. Этот факт имел роковые
последствия для России и для Европы. Пристрастно, но справедливо по этому
поводу писал Иван Солоневич в книге «Народная монархия»: «Для всякого
разумного человека ясно: ни каратаевское непротивление злу, ни чеховское
безволие, ни достоевская любовь к страданию – со всей эпопеей русской истории
не совместимы никак. В начале Второй мировой войны немцы писали об энергии
таких динамических рас, как немцы и японцы, и о государственной и прочей
пассивности русского народа. И я ставил вопрос: если это так, то как вы
объясните и мне, и себе то обстоятельство, что пассивные русские люди – по
тайге и тундрам – прошли десять тысяч верст от Москвы до Камчатки и Сахалина, а
динамическая японская раса не ухитрилась переправиться через 50 верст
Лаперузова пролива?.. Или – как это самый пассивный народ в Европе – русские –
мог обзавестись 21 миллионом кв. км, а динамические немцы так и остались на
своих 450 000? Так что: или непротивление злу насилием, или двадцать один
миллион кв. километров. Или любовь к страданию – или народная война против
Гитлера, Наполеона, поляков, шведов и прочих. Или «анархизм русской души» – или
империя на одну шестую часть земной суши. Русская литературная психология
абсолютно несовместима с основными фактами русской истории. И точно так же
несовместима «история русской общественной мысли». Кто-то врет: или история,
или мысль. В медовые месяцы моего пребывания в Германии – перед самой войной –
и в несколько менее медовые – перед самой советско-германской войной – мне
приходилось вести очень свирепые дискуссии с германскими экспертами по русским
делам. Оглядываясь на эти дискуссии теперь, я должен сказать честно: я делал
все, что мог. И меня били, как хотели – цитатами, статистикой, литературой и
философией. И один из очередных профессоров в конце спора иронически развел
руками и сказал: “Мы, следовательно, стоим перед такой дилеммой: или поверить
всей русской литературе – и художественной и политической, или поверить герру
Золоневичу. Позвольте нам все-таки предположить, что вся эта русская литература
не наполнена одним только вздором”. Я сказал: “Ну что ж – подождем конца
войны”. И профессор сказал: “Конечно, подождем конца войны”. Мы подождали.
Гитлеры и Сталины являются законными наследниками и последователями Горьких и
Розенбергов… в начале-де словоблудие, и только потому пришли Соловки и Дахау. В
начале была философия Первого, Второго и Третьего Рейха – только потом взвилось
над Берлином красное знамя России, лишенной нордической няньки… Русская
интеллигенция познавала мир по цитатам, и только по цитатам. Она глотала
немецкие цитаты, кое-как пережевывала их и в виде законченного русского фабриката
экспортировала назад – в Германию. Германская философия глотала эти цитаты и в
виде законченного научного исследования предлагала их германской политике.
Откуда бедняга Гитлер мог знать, что всё это есть сплошной, стопроцентный
химически чистый вздор? Как было ему не соблазниться пустыми восточными
пространствами, кое-как населенными больными монгольскими душами? Гитлер помер.
Давайте говорить о мертвеце без гнева и пристрастия: если правы Достоевский,
Толстой и Горький, то правы и Моммзен, Рорбах и Розенберг. Тогда политика
Гитлера на Востоке является исторически разумной, исторически оправданной и,
кроме того, исторически неизбежной. Если русский народ сам по себе ни с чем
управиться не может, то пустым пространством овладевает кто-то другой. Если русский
народ нуждается в этакой железной няньке – то по всему ходу вещей роль этой
няньки должна взять на себя Германия. И это будет полезно и для самого русского
народа».
Суть этого трагического
исторического недоразумения в том, что и сами русские писатели, и российское
общественное мнение, а вслед за ним и европейское неадекватно воспринимали смысл
того, что русская литература говорит о характере и судьбе своего народа.
Русская классика сделала грандиозный, но только первый шаг в познании русским
образованным обществом духовных устоев своего народа. Дальнейший путь был очень
длинен, ибо широка была пропасть, вырытая за два столетия отчуждения. Великие
достижения великой литературы в том, что она совершила поворот к православным и
национальным истокам культуры, будила религиозную совесть общества, разоблачила
многие его заблуждения и пороки, вскрыла существенные противоречия жизни,
впервые указала на смертельную опасность духовных болезней, обрушивающихся на
христианский мир. Но процесс возрождения исконно русской культуры замедлялся
грузом вековечных предрассудков, всеобщей идеологизацией общества и был прерван
катастрофой 1917 года.
Кривое зеркало публицистики
Подмена рефлексии народного
характера саморефлексией – давняя традиция русской умственной культуры.
Ещё Петр Чаадаев, говоря о России как о «выпавшей из истории христианского
человечества», описывал положение образованных сословий. Письма Чаадаева –
это вопль человека, взращенного в утопии «русского Запада», но впервые с
состраданием обратившего взор на огромный «материк» – Россию.
Европеизированному сознанию Россия представлялась недостойной европейской
цивилизации. Жизнеощущение Чаадаева было безысходно трагическим потому, что он
не видел отчужденности образованных сословий от национальных корней. Не к
самобытнейшей русской цивилизации, а к европеизированному культурному слою
можно отнести слова Чаадаева: «Присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что
каждый важный факт нашей истории пришел извне, каждая новая идея почти всегда
заимствована». Не у России, а у дворянской секуляризованной
денационализированной культуры «нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего».
Саморазоблачающе звучат слова «Философических писем», если отнести его к
собственному предмету – характеристике экзистенциального состояния дворянской
культуры: «Мы идём по пути времён так странно, что каждый сделанный шаг
исчезает для нас безвозвратно… у нас нет развития собственного, самобытного,
совершенствования логического. Старые идеи уничтожаются новыми, потому что
последние не истекают из первых, а западают к нам Бог знает откуда, наши умы не
бороздятся неизмеримыми следами последовательного движения идей, которые
составляют их силу, потому что мы заимствуем идеи уже развитые. Мы растем, но
не зреем; идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к
цели» (П.Я. Чаадаев).
Сказанное не имеет отношения к
великой русской цивилизации, которой было уже восемь столетий, но которая была
мало известна европейски образованному русскому обществу. Чаадаев смог
произнести эти слова, но не был способен отнести их к себе. Цензура
дворянско-интеллигентского подсознательного не допускает совершить решающий акт
самосознания. Если кто-то находит силы сделать это, то он выпадает из сферы
общественного внимания. Пушкин достойно отвечал Чаадаеву: «У нас было своё особое
предназначение. Это Россия, это её необъятные пространства поглотили
монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и
оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация
была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое
существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако,
совершенно чуждыми христианскому миру… Клянусь честью, что ни за что на свете я
не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших
предков, такой, какой нам Бог её дал». Но это не было услышано в обществе.
Поэтому почти не известны взгляды позднего Чаадаева, которому удалось
раздвинуть шоры интеллигентского сознания и увидеть контуры самобытной исторической
миссии России. Прозревший Чаадаев отказался от утопических построений, но
русское образованное общество до сего дня с упоением повторяет катехизис европейского
прогресса. Чаадаев популярен тем, что раз и навсегда пригвоздил русских к
позорному столбу как растительный, внеисторический, бескультурный народ, не
одухотворенный внутренней идеей, не имеющий ни смысла, ни цели исторического
развития. От Чаадаева восприняли то, что этот пробел в истории России
может быть ликвидирован, если перенять европейскую образованность. И все беды
России не в том, что она сошла с самобытного пути, но в том, что так и не вошла
в общее движение с западноевропейскими народами. Общественное мнение
усваивало ошибки и заблуждения своих гениев, но не их прозрения.
Механизмы искажения русского
характера в русской литературе и в публицистике схожи. Характерен в этом смысле
пример Николая Бердяева, который много и ярко писал о России. Величайший
философ ХХ столетия оказался в этой проблеме не на высоте своего гения, разделяя
и развивая господствующие заблуждения. Его выводы можно воспринимать как
классическую интеллигентскую характеристику русского народа. Несмотря на
присущую Бердяеву оригинальную философскую позицию и манеру письма, он выразил
расхожие интеллигентские предрассудки об истории России и русском народе. Эти
суждения Бердяева о России Солженицын называл белибердяевщиной.
Как принято в образованном
обществе, Николай Бердяев пытается понять характер русского народа исходя не из
реальной истории и культуры, а из сравнения русского уклада с западным, в
противопоставлении России и Европы. Привлекается при этом не реальная Европа, а
родная и больная иллюзия «русского Запада». Из больного русского далека
строится миф о душевно близкой и родной Европе, затем в противоположность
чертам характера мифического «европейского народа» «диалектически» выводится
черта характера русского народа. Как иначе – у русских всё не как у
людей.
Итак, Н.А. Бердяев пишет: «Враг
близок к западному человеку, и необходимо принять меры для самозащиты. Отсюда и
интенсивность западного отношения к жизни, интенсивность западной культуры.
Отсюда и характер патриотизма западного человека».
Прежде всего, какой такой враг
близок к западному человеку? Вокруг всякого европейского народа живут
близкие по культуре народы. Эти народы устроили жизнь таким образом, что все
стали врагами всех. Всякий сосед в средневековой Европе – враг. Это
индивидуалистическое обособление европейского человека рассекает и сами народы:
в Италии и Германии существовали десятки мелких «государств», которые были по
отношению друг к другу врагами и вели бесконечные войны. И только в этом смысле
можно говорить о том, что враг близок к западному человеку. Европа не
знает нашествий, подобных половецким, татаро-монгольскому, шведскому, немецким,
польским, французскому – на Русскую землю, при которых к русским относились как
к низшей расе, стремились их истребить, поработить и лишить веры. За тысячу лет
в Европу вторглись только арабы, обогатившие европейцев арабской наукой и
античной культурой.
Если русский народ сумел отбиться
от смертельных врагов и расширить своё государство на шестую часть суши, то это
может означать всё что угодно, только не отсутствие интенсивного
отношения к жизни. Это говорит о том, что меры для самозащиты
русского человека были наиболее эффективны. Таковые меры требовали от народа
огромных усилий, того, что Бердяев называет интенсивным отношением к жизни.
Однако европеизированные русские мыслители не видели в своем – чуждом для них –
народе очевидных достоинств, но всеми силами пытались навязать их родной
Европе.
Представим, каковы были бы плоды интенсивного
отношения к жизни западноевропейских народов, если бы они обитали на
пространствах, соизмеримых с российскими, с русскими морозами, с годовым
перепадом температуры в пятьдесят градусов (а не в двадцать, как в Европе), без
ласкающего Гольфстрима, с периодическими засухами, с разбросанностью
ископаемых, с отсутствием судоходных рек, ведущих в открытые незамерзающие
моря? Откуда взялись бы славные европейские дороги, если бы их было столько же
на душу населения, сколько в Европе, но они были бы размазаны по российским
километрам? И если бы плоды цивилизации сметались с лица земли нашествиями с
востока, запада и юга с периодичностью в пятьдесят лет? Русский же народ, по
мнению либеральных публицистов, пассивный, безвольный, ленивый, анархический,
сумел выжить в этих условиях и цивилизовать за короткий исторический срок
необозримые пространства, сохранив на них все народы и создав великую культуру.
При непредвзятом взгляде очевиден
факт уникальной выживаемости и творческой динамичности русского народа, что и
называется интенсивным отношением к жизни и интенсивностью культуры.
Но замерить эту характеристику невозможно по европейским аналогиям и лекалам.
Интенсивность жизнепроявления русского народа имеет иное измерение, нежели в
Европе. При европейском арифметическом исчислении она незаметна, поэтому, на
взгляд европейской образованности, её и не существует.
Далее Николай Бердяев характеризует
русский народ через его отношение к земле (в сравнении с западным): «Не
народ владеет землей, а земля владеет народом… Русский народ не столько
защищает и спасает свою землю, сколько ищет защиты и спасения от своей земли. В
русской земле всегда можно укрыться от всякого врага. Отсюда экстенсивность
русского отношения к жизни, слабая потребность в интенсивной культуре…
Дионисизм, стихийность русской души и есть результат власти земли».
Сказано так, будто русский народ
родился вместе с необозримыми своими пространствами, которые изначально владели
русским народом, а народ только укрывался в них от всех напастей. И не
народ защищал веками свою землю. Но при такой неинтенсивной жизни земля эта
неисповедимыми путями расширилась до Ледовитого и Тихого океанов. Подобные
фантазии кажутся убедительными для европейски образованных интеллигентов,
убежденных, что извечные русская пассивность и лень и объясняются
огромными русскими пространствами.
Умные люди умственной культуры
с умным видом плетут явную несуразицу и потому, что бросающееся в глаза в европейских
масштабах теряется в российской шири. Оно есть, но его не видно, если
переводить взгляд с Европы на Россию без изменения фокуса зрения. Происходящее
в России невозможно охватить узким взором, настроенным на европейские масштабы.
Не охватив же в целом – невозможно понять. Какие только узоры не вырезались на
обширных пространствах и в русской истории по европейским лекалам! Если
исторические факты не вмещались в методу прозападной мудрости, тем хуже для
фактов, и обратно – в историю записывались выводы русско-европейской диалектики
и схоластики, даже если их невозможно было обнаружить в реальной русской жизни.
«Россия – самая
националистическая страна в мире, страна невиданных эксцессов национализма,
угнетения подвластных национальностей русификацией, страна национального бахвальства,
страна, в которой всё национализировано, вплоть до вселенской Церкви Христовой,
страна, почитающая себя единственно призванной и отвергающая всю Европу как
гниль и исчадие ада, обреченное на гибель» (Н.А. Бердяев).
Наивно думать, что Европе неведомы эксцессы
национализма. Напротив, в русской истории невозможно представить геноцид,
которому цивилизованные европейцы подвергли народы черной и желтой рас на
Африканском, Американском и Австралийском материках. В России никогда не было
порабощения и истребления других народов, не было государственной политики
скальпов (когда власти платили за убитых индейцев), а также идей расового
превосходства. В России невозможно обнаружить такого национального
бахвальства и презрения к иностранцам, как у англичан, французов и немцев,
у которых в крови разделение людей на белых и цветных, на высшие и низшие расы,
на дикий Восток и культурный Запад. В российском обществе трудно найти
отношение к Европе, описанное Бердяевым. Напротив, и в Петербурге – этой
нерусской столице русской империи, и в традиционно русской Москве, «если бы
какая бы то ни была семья, группа, кружок и проч. попробовали бы как бы то ни
было задеть национальное достоинство финна или индейца, поляка или татарина, то
это было бы общественным скандалом» (И.Л. Солоневич).
Николай Бердяев утверждал, что в
русском народе дух пребывает в потенциальном, непроявленном состоянии, он
«плавает» в душевно-телесной стихийности. Сама по себе Россия как бы
бессильна организовать упорядоченную жизнь. Мужественное, освобождающее и
оформляющее начало приходило в Россию извне, было греческим в старину,
французским или немецким в Новое время. Получается, что «плавает» этот народ в душевно-телесной
стихийности тысячу лет, а великая Россия, героическая её история и
богатейшая культура созданы греками, немцами и французами.
Выводы о неоформленности и
потенциальности нашей русской души самому автору милы и симпатичны
потому, что они отражают историческую недооформленность русской интеллигенции и
оправдывают её старательное равнение на западный порядок. Но многих
внимательных читателей Бердяева в Европе таковые черты национального
характера могли раздражать и побуждать «дооформить» русскую неупорядоченную
массу. Собственные вожделения немцев, подкрепленные авторитетными выводами
русской мысли, становились государственной стратегией. При этом остается
необъяснимым, почему упорядоченная, дисциплинированная немецкая армия при
многих попытках «дооформить» Россию ни разу не брала Москву. В то время
как русская неупорядоченная масса, не проявляя желания влезать в германские
дела и ни разу по своей инициативе не нападая на Германию, неоднократно
оказывалась в Берлине: во времена Елизаветы Петровны, в наполеоновское
нашествие (в котором принимали участие немецкие войска), в 1945 году – вопреки
сталинскому террору. Подобные выводы о русском характере и России далеко не
безобидны, ибо могут оказаться приглашением для некоторых «цивилизованных»
властителей проявить на российских просторах своё дисциплинирующее, организующее
и оформляющее начало. Идеологи немецкой экспансии на Восток были хорошими
специалистами по русской литературе и публицистике. Книга Н.А. Бердяева «Истоки
и смысл русского коммунизма» с 1933 года переиздавалась на всех европейских
языках в течение пятнадцати лет, прежде чем вышла на русском языке.
Обобщающий вывод интеллигентских
теорий о русском народе может звучать так: «Русский народ есть в высшей
степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей… Это народ,
сочетающий в себе полярно противоположные свойства, и величайшее добро легко
переходит в нем в величайшее зло. Это обнаружила русская революция. Это в
глубине русского духа открыл Достоевский» (Н.А. Бердяев).
Подобные глубокомысленные
рассуждения при соотнесении с историческими фактами оказываются полуправдой,
которая может быть формой заблуждения. Действительно, бывали случаи, когда в
русском народе величайшее добро переходило в величайшее зло. Но не так легко,
как с легкой руки Бердяева. Это случалось во времена национальных катастроф и
исторических бедствий, которые обрушивались на народ далеко не по его вине –
либо при очередном нашествии иноземцев (татаро-монгольском, польском,
немецком), либо по вине правящих сословий (опричнина, Смутное время, раскол). В
тяжелейших испытаниях неудивительно, что надрывались силы народа и рушились
нравственные устои. Удивительно то, что во всех катастрофах русский народ
сохранялся и выходил из них более сильным. Характер русского народа
поляризован, но в других измерениях. Это не врожденное свойство стихийной души,
а срывы при невыносимых испытаниях. Непрерывная борьба за существование
требовала напряжения гораздо большего, чем у европейских народов. Когда силы
народа не выдерживали исторического бремени, волевое напряжение срывалось в стихийную
вольницу, но неизменно временную. Национальная трагедия не имеет отношения к лёгкому
переходу величайшего добра в величайшее зло.
Некоторые противоречия и
полярности, которые описывает Бердяев, присущи образованным сословиям. Бердяев
утверждает, что свойственное русскому народу чувство богоизбранности и
богоносности России сопровождается «пессимистическим чувством русских грехов
и русской тьмы, иногда сознанием, что Россия летит в бездну». Но русскому
человеку мало свойствен черный пессимизм. Это скорее декадентская черта
интеллигенции. Ни пессимистического чувства грехов, ни ощущения, что
Россия летит в бездну, мы не встретим ни в Киевской Руси, ни в
Московском царстве, ни в петербургский имперский период. Исключением является
раскольничество, которое этим не оказало особого влияния. Для православного
русского человека характерно осознание своих грехов, покаяние и упование на
прощение, но не безысходный пессимизм. И духовно оптимистическая православная
религиозность, и необходимость выживания в суровейших обстоятельствах
культивировали в русском народе трагический оптимизм, пролагающий путь спасения
в катастрофичности и зыбкости земной жизни.
В пессимистическом чувстве
русских грехов и русской тьмы выразились нераскаянность
интеллигенции в своих исторических грехах, тьма и беспросветность
её экзистенциального положения. Смутное чувство вины проецировалось вовне –
неискупленная вина переносилась на того, перед кем виновен. Отсюда и выверты о беспросветности
русской тьмы, непробудности нравственного чувства у народа («грешить
бесстыдно, непробудно») и великости русских грехов. Чем грешнее и чернее
выглядит народ в глазах интеллигентского сословия, тем легче снять с себя вину
за происходящее и грядущее. По мере нарастания революционного безумия в среде
интеллигенции громче звучат слова о природной греховности и душевной
тьме русского народа.
Интеллигенция чувствовала, что
Россия летит в бездну, ибо сама туда её толкала. Но никогда не признавалась в
этом: Россию в бездну ведёт кто угодно – Сам Христос в «Двенадцати» Блока.
Умственное сословие талантливо описывает этот процесс и возжигает перед народом
блуждающие болотные огни. Когда «полет» действительно закончится на дне бездны,
интеллигенция выведет из катастрофы массу тончайших умозаключений о виновности
характера русского народа, о русском коммунизме, истоки которого в
Москве Грозного и Петербурге Петра, а смысл – в русской апокалиптичности,
внеисторичности, хаотичности, анархичности, асоциальности и прочих русских
грехах и русской тьме. Для грехов же тех, кто изобрел мировой
коммунизм, и тех, кто насильственно внедрил его в Россию, места не остается.
Поэтому Карл Маркс и даже Ленин в глазах интеллигенции до сих пор ходят в
гениях, а русская интеллигенция – в ореоле безвинной жертвы русской
революции.
Интеллектуальные упражнения русской
интеллигенции, мотивированные её эгоистическим самоутверждением, далеко не
безобидны, ибо раскрепощают и мобилизуют агрессивные энергии, десятилетиями
сотрясающие многострадальный русский народ.
Можно проследить, как преломляются
положительные ценности, которые образованные сословия пытаются перенять у
своего народа или описать. Идея богоносности русского народа описывалась
чрезмерно литературно, в неё привнесено много истерической взвинченности,
эстетической стилизации, нравственной зыбкости. Характер русского народа не
имеет отношения к типично интеллигентской раздвоенности религиозного сознания,
когда на месте Христа может возникнуть черт, Премудрость Божия – Россия – превращается
в Прекрасную Даму, которая в конце концов оборачивается проституткой (у А.А.
Блока). Двоящиеся образы, как бы художественно талантливы они ни были, являются
симптомом духовной болезни творческих людей. Русские гении вырывались из орденской
психологии интеллигенции и прикасались к безмерной народной мудрости, поэтому
могли сохранить творческую глубину и приобрели цельность духа. Таков светлый
гений Пушкина. Таковы антиномичные гении Гоголя и Достоевского, у которых могут
двоиться человеческие чувства, страсти и поступки, но не реальности добра и
зла. Добро всегда добро, а зло есть зло, Бог остается Богом, а дьявол – злой
силой, какая бы диалектика их борьбы ни разворачивалась на поле битвы – в душе
человека. Характерно русскую цельность и чуткость к различению добра и зла
русская интеллигенция потеряла.
В характеристиках русского народа
скрыта болезненно объективированная самохарактеристика русской интеллигенции.
Слова Николая Бердяева о том, что «подойти к разгадке тайны, сокрытой в душе
России, можно, сразу же признав антиномичность России, жуткую её
противоречивость», нужно отнести прежде всего к сословию автора. Это –
проекция на Россию слабостей, пороков и комплексов интеллигенции. Русская душа
противоречива, как и всякая высокоорганизованная душа, трудно остаться
гармонично целостной в катастрофической истории. Степень антиномичности
русского характера сильно преувеличена интеллигенцией. Интеллигенция переносила
на народ жуткую противоречивость собственного экзистенциального положения.
Слова Н.А. Бердяева о том, что,
совершив революцию, «русский народ не захотел выполнить своей миссии в мире,
не нашел в себе сил для её выполнения, совершил внутреннее предательство»,
имеют отношение в первую очередь к интеллигенции. В революции 1917 года в
последнюю очередь виновны простонародные массы, которые не голосовали, как
германские в 1933 году, за тоталитарную идеологию. Развязанная интеллигенцией
революция во имя народа привела к невиданному порабощению и истреблению в
первую очередь масс народа. Интеллигенция прежде всего виновна в предательстве
по отношению к своему народу и к Родине. Вина же народных масс в непонимании
происходящего, в безволии и бездействии в решающий исторический момент. Именно
такие качества насильственно внедрялись в народные массы образованными
сословиями России в течение двухсот лет.
Иван Александрович Бунин много и
нелицеприятно писал о русской интеллигенции, но и он не понимал, что её пороки
коренятся в экзистенциальной беспочвенности. Говоря о простонародье, он нередко
приписывал ему качества, свойственные образованным сословиям: «Длительным
будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страшные. Да и
делаем мы тоже только кое-что, что придется, иногда очень горячо и очень
талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит – один
Петербург подтягивал». Петербург не подтягивал, а тянул туда, куда народ не
желал идти, отчего пассивно сопротивлялся европейскому просвещению, несущему
чуждый образ жизни. Некоторые пороки складывались как реакция защиты от чуждого
жизненного уклада. Народ не хотел работать так, как диктовало европеизированное
барство, и защищался ленью. Характер трудолюбивого народа с петровских времён
развращался в неорганичных для него условиях. Вместе с тем, утрируя недостатки,
писатель не замечает, что настолько ленивый народ не смог бы прожить такую
историю: отбиться от нашествий со всех сторон, освоить огромные суровейшие
пространства, создать уникальную культуру. Такая характеристика может иметь
отношение к дворянству, которое не могло не брезговать длительным будничным
трудом, ибо видело свою задачу в освобождении от всяких обязанностей и
труда.
«Отсюда Герцены, Чацкие. Но
отсюда же и Николка Серый из моей “Деревни”, – сидит на лавке в темной,
холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то “настоящая” работа, – сидит, ждет
и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта
разбалованность – вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным
кольцом и всё за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с
руки на руку колечко! Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые “запросы”,
будто бы происходящие от наших “глубин”» (И.А. Бунин). Бунин и те, кто
экзальтированно погружались в народные глубины и запросы, находятся по разные
стороны от истины и равно далеки от неё. И тёмные, и светлые черты
действительно присущи великому народу, который защищался летаргическим сном от работы
на чуждое ему барство.
Русское образованное сословие плохо
понимает свою страну, ибо судит о ней косвенно – по литературе, преисполненной
предрассудков. «У нас дошло до того, что России надо учиться, обучаться, как
науке, потому что непосредственное понимание её в нас утрачено… Проглядели
Россию. Особенность свою познать не можем и к Западу самостоятельно отнестись
не умеем. Тут дело финальных результатов петровских реформ…» (Ф.М.
Достоевский). Русской умственной культуре присущ сравнительный метод познания
своего народа: по образцам, представляющим собой иллюзии «русского Запада». Проявления
русского характера невозможно измерить арифметическим сравнением сумм культуры
и цивилизации. Бессмысленно формально сравнивать плоды культурного развития,
имеющие различное происхождение и природу. Учитывать нужно и реальные условия,
и затраты, при которых эти суммы слагались. Естественно, что многое из образа
жизни русского народа кажется диким для народов европейских и действительно
неприемлемо для европейских условий, хотя для русских осмысленно и эффективно.
Образованное общество обличало свой народ в отсутствии тех качеств, благодаря
которым он сохранил своё существование и создал великую цивилизацию.
Чтобы увидеть характер своего
народа, необходимо отбросить подход наших русских европейских умов (выражение
Ф.М. Достоевского). Когда мы оставим западный стандарт для лучшего применения,
мы не должны опасаться, что останемся без европейских понятий, без логики и
дисциплины мысли, ибо эти качества присущи всем великим народам. Мы увидим
тысячелетнюю историю и великую культуру своего народа, утверждающую непреложные
истины. Воссоздать образ народной души можно по фактам нашей истории и культуры
в целом (которая не сводится к культуре дворянской) и в последнюю очередь – по
публицистике и художественной литературе.
Познать характер человека и народа
возможно только с любовью, ибо любовь пролагает дорогу разуму к истине: «Мы
познаем в той мере, в какой любим» (бл. Августин). «Только любовь
положительна: созерцая и размышляя, любовь, вероятно, является величайшей
познавательной силой человеческой души. Именно она даёт человеку право на
критику, только тогда эта критика становится оправданной, творческой и
созидательной. Критика без любви и без понимания есть критиканство и зависть» (И.А.
Ильин). О познании-любви к русским людям говорил в тридцатые годы ХХ века и
немецкий философ В. Шубарт: «Кто их не любит – тот никогда и не поймет».
Когда мы непредвзято, с любовью увидим факты истории и сделаем из них выводы,
нам понадобятся анализ, обобщение, сравнение, выводы, логика и диалектика.
Образованность не будет слепить, не сможет принудить не видеть очевидное и
приписывать несуществующее. Мы выйдем ко всечеловеческому достоянию, не унизив
и не растворив себя, проявляя данный нам Творцом национальный характер и
развивая свою национальную самобытность. Этим мы не уничижим себя, но обогатим,
ибо наше сознание расширяет причастность к судьбе и миссии своего народа. В
позиции христианского универсализма и православной соборности нам не захочется
изливать елей и патоку, говоря о достоинствах своего народа, как немыслимо
будет уничижать достоинство других народов. Мы входим в европейскую культуру со
своим индивидуальным обликом. Об этом говорил Ф.М. Достоевский: «Русский…
получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда
он наиболее европеец».
После долгой критики критиков
русского характера встает вопрос: каков в действительности загадочный русский
народ? Понять человека и народ можно, любя и признавая его суверенное
достоинство. Ибо любовь позволяет почувствовать другого изнутри, духовно соединившись
с ним. Мы должны отрешиться от эгоистических притязаний, которые возникают при
сложных отношениях, и возвыситься до объективности любви и солидарности. И
тогда не будем приписывать то, что навязывают наши претензии и амбиции, не
будем проецировать свои слабости и пороки, но взглядом любви и участия сможем
увидеть неповторимый лик души – свою соборную душу.
Попытаемся распознать русский
характер, который искажен пристрастной полемикой интеллигентской культуры.
Будем судить прежде всего по фактам истории народа, созданной им культуры и
цивилизации. Затем можно брать в расчёт, чтÓ
об этих фактах наговорено культурой дворянско-интеллигентской, при
критическом отношении и там обнаружим много ценного. В каждом народе есть свои
маргиналы и люмпены, но не они являются носителями национального характера, ибо
свойства денационализированных и деклассированных элементов интернациональны. Пороки
– схожи, добродетель – индивидуальна. Характер народа выражается прежде всего в
его достоинствах, продолжением которых могут быть и недостатки. Созидают
национальный характер святость и творческий гений. Несет достоинства
национального характера консервативное большинство народа, на котором земля
стоит.
Оригинал этого материала
опубликован на ленте АПН.