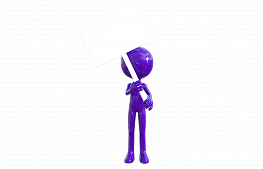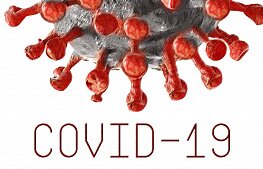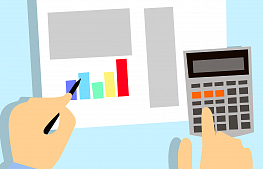






Отчуждение
Событие года, которое вызвало мое неподдельное удивление и
одновременно воспринималось как событие знаковое и в то же время радостное, — это
тот простой факт, что на поэтическом концерте 27-летней российской поэтессы и
актрисы, а также одного из самых известных в стране блогеров Веры Полозковой из
Москвы, который проходил в одном из нижегородских театров, зал был заполнен до
отказа.
К сожалению, я не был свидетелем этого факта. Но люди, которые
там были, подтверждают высокую степень интереса к выступлению молодого поэта. И
для меня этот факт намного более показателен и значим, чем многие другие
события, происходящие сегодня. В том числе, и события политические.
Потому что культура для русского сознания выполняет функцию
намного более значимую, чем, может быть, для других культур. Или, по крайней
мере, занимает другие области и решает другие задачи.
На ум приходит историческая аналогия. Когда в голодном
Петрограде самых первых послереволюционных лет, в стране, потрясенной
глобальными историческими переменами, которые, казалось бы, должны были
истребить и затоптать весь интерес к культуре, похоронить его под обломками
рухнувшего «старого мира», который разрушили до основания, вдруг с невиданной
силой и активностью стали возникать литературные сообщества, проходить вечера поэтов
и художественные выставки, открываться театральные студии. И Николай Гумилев,
как это рассказано в воспоминаниях поэтессы Ирины Одоевцевой, вел по темным и
заснеженным улицам ее, свою ученицу, послушать со сцены Блока.
Для меня тот факт, что в обществе вдруг пробуждается интерес
к чему-то не повседневному, не сиюминутному, — это знак некоего внутреннего
здоровья или выздоровления, которое напрямую не связано с политической
ситуацией. Это, скорее, пример того, что часть общества полностью отрешилась от
сиюминутных ценностей или, по крайней мере, преодолела соблазны таковых
ценностей. Часть нашего современного общества снова обратилась к тому, что не
материально и не измеряется такими критериями, как «полезно», «экономически
выгодно», «политически целесообразно» и так далее.
К сожалению, помимо этого, для меня очень отрадного, факта и
еще нескольких примеров, подтверждающих, что интерес к культуре и, в частности,
интерес к литературе, к театру, к музыке в обществе не угасает, а напротив,
растет, становится все более и более изощренным, разноликим, многообразным, —
помимо этих фактов ничего особенно не затронуло моего сознания в уходящем году.
Пожалуй, только такие события воспринимаются мною как сугубо
положительные. Они, еще раз подчеркну, никак не связаны ни с конкретной
экономической или политической ситуацией, ни с действиями каких-либо
определенных общественно-значимых фигур.
Нечестность, ощутимая и очевидная
Что касается политики, то, наверное, начиная говорить о ней,
стоит с упомянуть: я — человек, переживший, как и все представители моего
поколения, огромное количество потрясений. Наверное, у каждого сознания есть
свой предел восприятия. Далее наступает зона или пространство той наивной
мудрости, которая сводится к великому и незыблемому библейскому высказыванию
Экклезиаста: «Все проходит — и это пройдет».
Сегодня по отношению к политической жизни я испытываю какое-то
глубинное равнодушие. Которое окончательно и бесповоротно оформилось после
того, как у нас в стране прошли так называемые выборы в Государственную Думу РФ
в конце 2011 года. В этот момент, как мне, обывателю, кажется, — и мне, как
обывателю, человеку, пришедшему на выборы, это было очевидно, — во всей полноте
проявилась одна из главных духовных составляющих нашего сегодняшнего российского
общества: все нечестно.
На этих «выборах» все было нечестным. И ощущение этой
нечестности, которая вдруг раскрылась в своей ширине и глубине, показав, что
охватывает собой какие-то основы наших сегодняшних отношений, вдруг стало
неожиданно сильным. Эта нечестность стала слишком ощутимой и очевидной.
И она не просто стала очевидной нормой всего, но появилось
отчуждение, поскольку с этой нечестностью просто не хочется иметь никакого
дела, не хочется вступать с ней ни в какой диалог. Потому что, как гласит,
может быть, грубоватая народная мудрость, «если смешать килограмм мармелада и
килограмм грязи, то получится два килограмма грязи».
Поэтому в нынешнем политическом мире, пропитанном ложью,
крупицы здравого смысла, решений, которые носят бескорыстный характер, потому
что направлены не на конкретные цели получения каких-то материальных или
политических дивидендов для конкретных политиков или
управленцев-хозяйственников, решений, которые могут быть значимы если не для
всего народа, то хотя бы для какой-то более или менее многочисленной его
группы, выбирать из общей кучи просто уже не хочется.
И на этом фоне даже события, которые изначально казались
ожидаемыми, потеряли свой смысл. Приведу лишь один пример, очевидно, весьма
значимый для нашего политического руководства, связанный с событием, которое,
по их замыслу, должно было бы стать глубоко значимым событием для всех нас.
Речь идет об Олимпийских играх в Сочи.
Я как-то очень явственно для самого себя осознал, что уходящий
2013 год — это, вообще-то, год ожидания Олимпиады в России. Но на самом деле
никакого ожидания этого события в обществе нет.
По этому поводу нет никакого злорадства, что, мол, может быть,
не получится. Нет уже даже никакого негодования по поводу того, сколько денег в
связи с этими играми было угроблено.
Есть просто очень досадное для самого себя равнодушие.
Не хватает ярких событий и людей, которых можно было бы
искренне уважать
Чего мне в уходящем году не хватало помимо событий культурной
жизни, которая мне интересна еще и как профессионалу?
Мне не хватало новых лиц. Мне не хватало каких-то новых и
ярких событий в разных сферах — в сфере науки, в сфере общественной жизни, и в
сфере политической жизни тоже. Мне не хватает людей, которых я мог бы искренне
уважать. И для меня год заканчивается газетной статьей, которая была прочитана
несколько дней назад в «Известиях».
Это было интервью с преподавателем санкт-петербургского
математического лицея, который воспитал двух лауреатов Филдсовской премии —
международной премии, которая вручается один раз в четыре года на международном
математическом конгрессе. Эта премия является самой престижной наградой в
математике — по этой причине, а также потому, что Нобелевская премия
математикам не вручается, Филдсовскую премию часто называют «Нобелевской
премией для математиков». Упомянутый мной преподаватель воспитал, в частности,
знаменитого Григория Перельмана, который стал первым человеком, доказавшим
«гипотезу Пуанкаре».
Так вот, в интервью «Известиям» он сказал, на мой взгляд,
абсолютно точно (это выражение и моей позиции тоже) следующее. Главная мысль
этого профессионала, который на протяжении всей своей жизни очень качественно —
я это хочу особенно подчеркнуть — делает свою работу, заключается в том, что
его опыт профессионала не нужен, не востребован и на него не опираются, когда
выстраивают какие-либо модели государственной жизни или государственных
проектов.
Иными словами, государству не нужны профессионалы. И более
того: государству сегодня словно бы не нужно само общество. Государство не
опирается на представителей общества, даже самых лучших.
Современный представитель российского общества чувствует себя
в этом отношении заброшенным и отторгнутым своей собственной страной.
Государство демонстрирует то, что пребывает и функционирует в каком-то своем
собственном мире, в который обычному человеку, в общем-то, нет никакого входа,
в котором от обычного человека, в общем-то, ничего и не зависит, потому что
даже возможности участвовать в выборе тех или иных политических лидеров и
руководителей для себя обычный человек лишен.
В свою очередь, государство предоставляет рядовому жителю
страны жить в своем собственном мире, и его, государство, не интересует, как
он, обычный россиянин, в этом мире перебивается и прозябает.
«Все проходит»
Некое чувство пустоты, отъединенности от того, что где-то,
может быть, и происходит, — это чувство не самое приятное. Но оно доминирует
сегодня при воспоминании о быстро прошедшем годе, не оставившем о себе
абсолютно никаких ярких воспоминаний, кроме тех, о которых я уже сказал.
Думая об этом, почему-то вспоминаешь одну из важнейших сцен
романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» — сцену прощания с умершим главным
героем, когда над его телом плачет Лариса, Лара. Она говорит о том, что они
жили так, что никакие государственные, в том числе революционные, бури и
передряги их не интересовали. Их интересовало другое: вопросы о вере, о Боге, о
любви и смерти, — и это было для них важнее.
Мне кажется, что такая потребность в обществе становится все
более и более осознанной. О ней так или иначе говорят многие деятели культуры и
просто думающие люди. Хочется жить чем-то настоящим. А то, что предлагает
нынешняя российская власть, настоящим не кажется.
Насколько продолжительным и угнездившимся будет такой порядок,
который рождает это тотальное равнодушие?
Трудно сказать. Ясно одно: «все проходит», следовательно — и
это тоже пройдет. Вопрос в том, хватит ли нашей жизни, чтобы исчерпать этот
порядок до конца и дождаться перемен к лучшему.