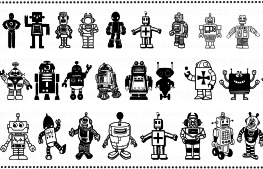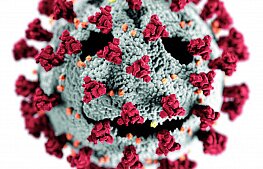Проект революции в Париже
«Беспорядки» во Франции с самого начала поставили вопрос языка. Во-первых, языка самих «беспорядков» или языка первичного описания. Это значимо именно потому, что сами повстанцы, мятежники (как их ни называй), ничего особенного не говорят. В отличие от классических революционеров, у них нет своего революционного языка, который, например, предполагал, что любой мало-мальский буржуй — владелец бакалейной лавки уже паук-эксплуататор. Поэтому то, что происходит, получает наименование в согласии с политикой предупреждения и предохранения. Уже налицо «беспорядки» и даже «мятежи» (emeutes), однако об организованном бунте «говорить еще рано», мы ждем, пока количество трупов и сожженных машин перейдет в новое качество.
Новая логика: назвать происходящее надо именно так, чтобы оно не стало более серьезным и опасным для самого этого языка. Ребенка нужно называть ребенком за глаза и не разговаривать с ним, чтобы он не вырос во что-то более серьезное, то есть во взрослого и владеющего языком. Анфан-терибли из предместий прочитываются официальной политикой этимологически, то есть по связке со словом «enfant» (от латинского infans — «безмолвный», «немотствующий»). Поэтому все названия отстают от немых событий, описание стало «количественным» и «экспериментальным». Количество уничтоженных машин (на понедельник 7 ноября — 3300 штук) должно как будто перейти в качество нового понятия, однако пока этого не случилось. Пока, как отмечает автор блога parisbanlieue.blog.lemonde.fr, рост числа сожженных автомобилей оборачивается только ростом кликов, порожденных запросами «banlieu» (пригород).
Переговоры невозможны не потому, что «революционеры» или мятежники выставили новый язык, который отменял бы язык, на котором французские политики привыкли вести переговоры, а потому что они предпочитают никак себя не называть и ничего не требовать. Властям приходится говорить и за себя, и за них. Субъективизм плюс управленческое чревовещание (которое вдруг стало давать сбой). В результате беспорядки считаются (в том числе и количественно) «ночами» — ночами насилия (nuits des violences). Многие ожидали, что после какого-то количества ночей будут и требования, однако пока дискурс требований ограничивается сферами официальной политики и уровнем мэров. Это само по себе говорит о проблематичности версии «спланированности» и «организованности» беспорядков, о наличии единого центра. Либо этот центр напоминает центр масонских заговоров.
В этой ситуации как таковой нет ничего принципиально нового. Тема «немотивированной жестокости» особенно близка французским пригородам, которые давно стали объектом специфических исследований — как научных, так и культурных (достаточно вспомнить фильм Венсана Касселя «Ненависть» с сюжетом, предсказавшим развитие теперешних событий, или лекцию Ж. Бодрийяра «Насилие в городе»). Однако в данном случае слишком многое было сделано для того, чтобы представить любые действия пригородной молодежи в качестве некоего природного явления, заведомо лишенного какого бы то ни было внятного наименования и смысла. В этом ряду, конечно, не только «мразь» (racaille) Н. Саркози, но и его давно известная «теория дикарей» (theorie des sauvages): собственно, преступления в пригородах нельзя считать и преступлениями, поскольку совершаются они какими-то дикарями. Преступления являются не чем-то, что рассматривается с точки зрения права, а, вероятно, материалом для этнологии. (Относительно Саркози следует отметить, что он вовсе не стал «козлом отпущения», более того, уже была заявлена оппозиция «Саркози — в отставку или в президенты!».)
Дело не в том, что la racaille не являются la racaille, что они обиженные и оскорбленные, — дело в том, что целая совокупность политических практик, программ, языка была направлена только на то, чтобы натурализовать проблему, оставить ее как есть в ее «естественном состоянии», представить пригороды в качестве некоего «естественного источника инфекции» (по модели, например, природных источников чумы), то есть в конечном счете создать анклавы асоциальности и аполитичности в самом центре европейской культуры/политики. Как ни странно, дорогостоящие «социальные программы», вписанные в ту же самую неоконсервативную по своей форме политику натуральной фрагментации общества, только поддерживают «статус-кво» «дикарей».
В результате создания и сохранения такого «статус-кво» попытки восстановить «публичный порядок» не выходят за пределы аппаратной игры. Сама политика, даже оппозиционная, маргинализирована по отношению к «пригородам», которые лишены какого бы то ни было собственного голоса. Понятно, что ситуация расщепляется в соответствии с разными рутинными ставками: для одних «беспорядки» — это повод вспомнить о своих социалистических идеалах и грехах министерства внутренних дел, для других — возможность доказать свою крутизну, а для третьих — просто разметить очертания будущего большого пирога социальных инвестиций (куда они пойдут и как — решают, естественно, не повстанцы, а более или менее высокопоставленные представители «дворянства мантии»).
На этом уровне «официального урегулирования» и восстановления публичного порядка особенно показательным является общий режим дискурсивной проработки: он руководствуется не логикой анализа и описания, а логикой «ответственности». Совещания министров, мэров, вызовы жандармов, муфтиев и т.п. должны ответить на один вопрос: кто виноват и кто будет отвечать? Никакие описания в такой структуре в принципе не могут сработать, потому что требуется лишь одно — найти того, кто в конечном счете отвечает своей виной и будущей епитимьей. Дискурс бюрократической ответственности, предельно маргинальный по отношению к проблемам пригородов и социальным проблемам в целом, удобно скрещивается с логикой «криминалистического расследования»: размах и силу выступлений как нельзя проще стереть, постоянно акцентируя поиски «действительно виновных» — полицейских, от которых прятались в подстанции подростки, а затем и медиагероя Саркози, сделавшего из пригородов и сцен борьбы с исламским терроризмом персональное телешоу. Конечные причины ищутся не в более или менее долгосрочной политике, а в эмпирической фактах, то есть к повстанцам и бунтовщикам относятся именно как к физическим объектам, реагирующим на некие внешние возмущения, что только поддерживает продолжение «банкета», то есть «ночей насилия».
В ситуации, когда «теория дикарей» становится неким политическим common sense, попытки аналитических изысканий не обещают слишком многого именно потому, что не идут слишком далеко. Грубо говоря, на повестке дня только два конкурирующих способа «объяснить» то, что творится во Франции, — это националистическое объяснение и классовое.
Первое в наиболее четкой форме озвучил Ле Пен: «C’est la France elle-meme qui est attaquee par des hordes etrangeres» («На самом деле это сама Франция атакована иноземными ордами»), — выдавая желаемое за действительное (то есть стирая разницу между захватчиками и неугодными гражданами) и одновременно демонстрируя уже состоявшееся исключение всех «иноземных» бунтовщиков. Естественно, следующий шаг — всем известное «чрезвычайное положение». Как ни странно, националисты лишь поддерживают алиби современной политики, подчеркивая, что она не может сохраниться в теперешнем виде, однако такая ее нестабильность — дело рук принципиально чужеродных сил. Национализм упорно борется за органическую целостность общества, предполагая, что всегда можно разделить тех, кто внутри, и тех, кто снаружи.
Естественно, выполняется это за счет того, что кого-то реально выводят «наружу», то есть выставляют за дверь. Однако делать это поздно именно потому, что «101-й километр» и так давно был реализован, в определенном смысле сегодняшние беспорядки — это именно то, что случается после реализации националистической стратегии, то есть после того, как всех «подозрительных» попытались держать «где подальше» (причем понятно, что держать их совсем «подальше» невозможно). Национализм может лишь довести до конца эту консервативную логику натуральной политики (в которой политика всегда возвращается к фундаментальным требованиям неких групп и типажей — грубо говоря, «как волка ни корми, он все равно в лес смотрит»), то есть требовать даже не ассимиляции «проблемных» групп, а их последовательного исключения. Тушить огонь огнем (тем более что и Саркози уже прозвали «пироманом»).
Второе объяснение — классовое — наиболее четко озвучивается оппозицией (прежде всего Социалистической партией Франции), однако важна именно его официально приемлемая форма. В настоящий момент это объяснение (пока еще), естественно, не апеллирует к логике классовой борьбы, речь может идти лишь о том, как в чрезвычайных условиях обратиться к риторике «равенства шансов». Конечно, можно вспомнить множество случаев ущемления арабской молодежи из пригородов (например, уже обсуждаются проблемы распределения школьных учителей по округам Парижа, при этом подчеркивается, что бедные и криминогенные районы намеренно обходились хорошими преподавателями; теперь, вероятно, туда будут в принудительном порядке направлять выпускников Сорбонны и «Эколь Нормаль Суперьер»). Несомненно, именно классовое объяснение в его умеренной форме сейчас является официальной французской позицией, однако особого доверия оно не вызывает. Почему?
Проблема в том, что и националистический дискурс, и классовый в действительности погружены в одно и то же поле «натурализованной» политики, в которой заранее определены регионы, вход которых в политику (партийную и т.п.) должен оставаться для них непосильной задачей. Из этого следует, что оба дискурса определены «менеджериальным» подходом — они нужны лишь как ответы на вопросы «что с этим делать?» и «что им нужно дать, чтобы они заткнулись и легли спать?». Оба предполагают, что социальные волнения, беспорядки, бунты и т.п. начинаются именно потому, что «холопы» чем-то недовольны, что им чего-то не хватает, хотя это, возможно, просто «их дурь». То ли им не хватает денег, то ли наркотиков, то чего-то еще, но ни на что большее они в принципе не способны. То есть они ни в коем случае не способны на то, чтобы что-то собой представлять, иметь некий социальный и политический смысл, способность участвовать в решении своих проблем и в их постановке.
И в националистическом, и в официально-классовом варианте бунт выписывается как следствие более или менее натуральной (а может быть, наглой и притворной) нехватки, причем то, чего не хватает, определяется именно в терминах тех, кто определяет позицию «статус-кво». «Мы им все дали, а им все мало», «дай негру палец, он заберет всю руку» (Марк Твен), «я уже три раза сходил с ней в кино, три раза — в ресторан, и — ничего» (из анекдотов). В определенном отношении классовый анализ в таком варианте оказывается еще более жестоким и более лицемерным, нежели националистический.
Националисты пытаются работать с молодыми повстанцами как с неизвестной природой, которой они отдают дань уважения, позволяя ей быть «самобытной», но где-нибудь в другом месте. Социальные беспорядки истолковываются как «чума» или действия НЛО, а арабы, турки, пакистанцы и т.д. — как заведомо непонятные среднему европейцу зеленые человечки, которых нужно держать подальше — или на их родной земле, или, если не получилось, в спецучреждениях. Националистам-уфологам официальные социалисты противопоставляют жесткую практику дистанционного управления «субъектом» — политическое включение «арабов» (сама его возможность закрывается подобным общим и омонимичным этнонимом) заранее предупреждено именно на том основании, что «мы знаем, что вам нужно и какого рожна вам не хватает». В результате все возможные требования и решения определяются при непременном требовании сохранить актуальное положение, то есть продолжить обращаться с «проблемными» регионами и группами как с объектами менеджерского манипулирования (пусть в данном случае менеджер и будет, что маловероятно, ссылаться на Маркса), а не как с субъектами политической жизни.
По форме социалистическое (а на деле вполне консервативное) «недопущение» политизации проблем (проявлением которых и стали нынешние мятежи, сгоревшие машины и автобусы, раненые полицейские) исходит фактически из неверия в уже существующую политику. Если предполагается, что любое действие в сторону политизации приведет к учреждению «французского арабистана», следовательно, имеющаяся политическая система и ее теория уже несостоятельны, поскольку они, декларативно допуская «равное участие», на деле учреждают монополию и предполагают, что легитимация дополнительных политических сил приведет лишь к смене марки монополии (при том, что для собственно «пригородов» ничего не изменится). Иными словами, социалистические лозунги в настоящее время могут прикрывать политическую монополизацию, с одной стороны, и чрезвычайную натурализацию потенциальных политических групп — с другой.
Все это лишь подчеркивает бессилие «управленческих решений», «экспертных и профессиональных усилий», которые могут приобрести смысл только в той ситуации, когда классовое объяснение вспомнит о своих политических корнях. То есть в том случае, если в конечном счете «политика участия» и «равных шансов» станет именно политикой, а не менеджериальными оргвыводами. В противном случае единственным политическим языком «бунта» будет насмешливая проекция официального языка — малолетние преступники будут по-прежнему утверждать, что все их преступления — следствие плохой социальной среды, недостатка дотаций, дурной экологии и т.п.
Иначе говоря, вместо исходных «дикарей», которым была отведена участь импортированных туземцев с неискоренимыми преступными потребностями, Франция и Европа в целом получат «развращенно-просвещенных» дикарей, вполне овладевших языком своих кормильцев-колонизаторов и знающих, чего с них можно потребовать — с этих экзистенциалистов, «которые в ответе за тех, кого они приручили». А такая констелляция дел окажется очень интересной для перспектив объединенной Европы.
Оригинал этого материала опубликован в «Русском журнале».