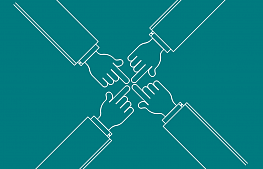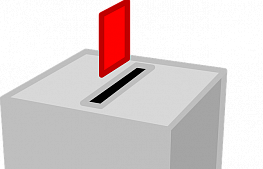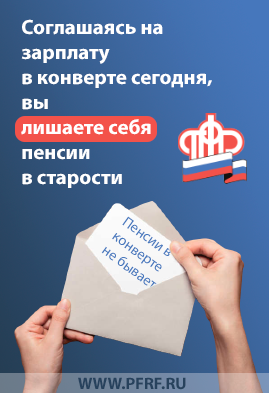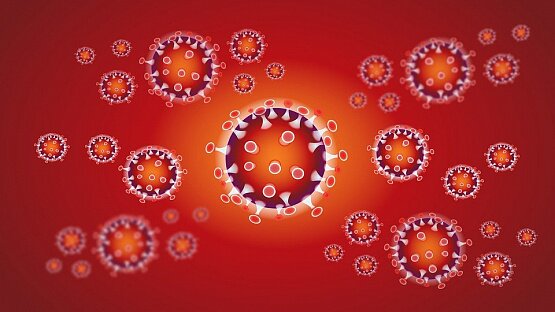Противоречия национального характера Русская земля Русский антиномизм Бердяев о русской противоречивости Характер нравственности
Русская земля
В 1112 году монах Нестор завершил
первое русское историческое повествование – летопись: «Се Повесть временных
лет, откуда есть и пошла Русская земля…». В 1238 году во время
татаро-монгольского опустошения и разгрома неизвестный русский автор пишет
«Слово о погибели Русской земли»: «О светло светлая и красно украшенная земля
Русская! Многими красотами дивишь ты: озерами многими, дивишь ты реками и
источниками местночтимыми, горами крутыми, холмами высокими, дубравами частыми,
полями дивными…» В гибельной ситуации пишется о самом главном, без чего
человек не может жить. Так русскому человеку с самого начала было дано и задано
осознавать Русскую землю как высшую ценность, через которую жители разных
племен и разделенных государств ощущали своё русское единство. Николай Бердяев
писал, что русским несвойственна мистика крови, но у нас сильна мистика
земли – русские дали, русские поля, реки, небо… Русские люди
обладали даром освоения и оформления пространства, стремились не только к
государственному присоединению и хозяйственному освоению, но и оформлению,
одухотворению земель; русская земля – это одухотворенное пространство. «Мир
– это Божье творение, мир прекрасен; тот, кто созерцает красоту природы,
приближается к познанию Творца. Русский пейзаж, неважно городской или сельский,
всегда приглашает к такому созерцанию. Это стало основой нашего мирочувствия,
закрепилось в сознании, в культуре. Отсюда это поразительное соответствие
“пейзажа русской земли” и “пейзажа русской души”» (Ф.В. Разумовский).
Примечательно типично русское религиозное освоение земли. Монахи-подвижники
стремились к уединению, уходили в незаселенные леса, острова. Вокруг первых
пустынножителей возникали монашеские общины, затем монастыри, хозяйственно
обустраивавшие обширные пространства. Новые подвижники уходили дальше в глухие
леса. Так обустраивалась Русская Фиваида – земля, освящённая православными
подвижниками.
Отсутствие серединного измерения,
стабильной укоренённости в мирской обыденности, свойственной европейским
народам, не исключает глубоких мистических отношений русского человека с землей
и природой. Свою страну русский человек именует русской землей. «Из
духа земли вырастает душа народа. Этот дух определяет его постоянные
национальные качества. В бесконечно широких, беспредельных равнинах человек
особенно ощущает свою малость, свою затерянность. Величаво и спокойно взирает
на него вечность, увлекая его от земли» (В. Шубарт). Русский деятельный и
созерцательный дух воспитался на суровой земле. «Природа является колыбелью,
мастерской, смертным ложем народа; пространство же есть судьба и его
воспитатель, преддверие его творческого духа, его окно к Богу» (И.А.
Ильин). Русская культура пронизана своего рода поэтическим отношением к земле,
природе, – может быть, поэтому схожи русские слова «стихи» и «стихия». Образ
Матери Сырой Земли в разных формах отражался в русской культуре. «Не только
земля, но и огонь, вода, небо – другие “стихии” средневековой космологии –
играли роль важных символов для русского воображения, и даже сейчас русский
язык сохраняет много обертонов, связанных с мифологией земли, которые были
утрачены более изощренными европейскими языками» (Д.Х. Биллингтон).
Земные пространства изначально во
многом определяли жизненное устройство русского народа. «У наших славянских
предков (кроме полян) община была территориальной. Славянские племена и
назывались по местам обитания, а не по имени предка, как, например, у
германцев. В русской общине кто поселялся, и даже бывший раб, не считался
чужим, мог включаться в общину и жениться тут. Не было закрытости рода-племени,
лишь единство “родной земли”. Мало этого, славянские племенные союзы IX в. были
государства, построенные снизу вверх» (А.И. Солженицын).
Глубокий и стойкий дух способен на
метафизическое отношение к природе, от гармоничного общения с которой он
обогащается. Новоевропейский человек «взирает на мир как на хаос, который он
должен – сначала ещё по воле Бога, а потом самовольно – укротить и оформить…
Так мир утрачивает своё единство, уступая силам разделения… Русский с его живым
чувством Вселенной, постоянно влекомый к бесконечному при виде своих бескрайних
степей, никогда не будет созвучен прометеевской культуре, проникнутой “точечным
чувством” и направленной на автономию человеческой особи или, что одно и то же,
– на сокрушение богов» (В. Шубарт).
Не будучи всецело привязанным к
мирскому, русский человек рачительно относился к земле, не выколачивал из неё
очередные продукты для новых потребностей. Характер хозяйственной жизни не был
хищническим, потребительским, не стимулировал ограбление завоеванных территорий
и не перемалывал природные ресурсы. Аскетичный народ не приспосабливал
агрессивно к себе окружающую среду, а сохранял её и приспосабливался к ней.
Европеец – завоеватель, покоритель, навязывающий свой образ жизни народам,
стремящийся господствовать над природой. Русский – осваиватель,
преобразователь, органично встраивающий своё жилище в природные ландшафты и
ритмы космоса. Отсюда бережное отношение к природе, открытость её таинственности
и красоте. В России не могло родиться представление о том, что человек, как и
всякое живое существо, – автомат (Декарт), а природа – это машина (Ламетри). К
мирозданию русские люди относились не как к бездушной среде обитания, а как к
живому организму, в природе ценили её прекрасную душу.
Для русского народа природа
является не чуждой холодной натурой, а тем, что при родовом, при-роде,
едино-при-родно, родное и близкое; и поэтому на-род и подответственная ему
при-рода – связаны экзистенциально. «Русская душа с раннего детства чует
судьбоносность, властность, насыщенность, значительность и суровость своей
природы; её красоту, её величие, её страшность; и, воспринимая всё это, русская
душа никогда не верила и никогда не поверит в случайность, механичность, бессмысленность
своей русской природы, а потому и природы вообще. Русский человек связан со
своей природой на жизнь и на смерть – и в половодье, и в засухе, и в грозе, и в
степи, и в лесу, и в солончаке, и в горном ущелье, и в полноводных, стремнинных
реках своих, и в осеннем проливе, и в снежном заносе, и в лютом морозе. И
связанный так, он созерцает природу как таинство Божие, как живую силу Божию,
как Божие задание, данное человеку, как Божью кару и Божий гнев, как Божий дар
и Божию милость» (И.А. Ильин). Ощущающий себя странником и пришельцем в
этом мире, русский человек тем не менее соединен мистическими корнями с
природой, землей, а через неё – с космосом и с неисповедимыми глубинами бытия,
жаждущего преображения. Поэтому «безмерность для русского человека есть
живая конкретная данность, его объект, его исходный пункт, его задача. Но в
безмерности этой дремлет, дышит и “шевелится” глухой сновидческий хаос: хаос
природы, хаос пустыни и степи, хаос страсти и её видений. “Тьма” над “бездною”,
но “Дух Божий носился над водою” (Быт 1:2), и русская душа борется за этот Дух
и взыскует преображения. Кто прозревает это, тот владеет ключом к сокровищнице
русского искусства» (И.А. Ильин).
Восприятие мироздания любвеобильно
в безмерности и конкретности, душа русского человека распахнута и шири
небесной, и каждой былинке:
Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму,
И степь от краю и до краю,
И солнца свет, и ночи тьму,
И одинокую тропинку,
По коей, нищий, я иду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду!
О, если б мог всю жизнь смешать
я,
Всю душу вместе с вами слить.
О, если б мог в свои объятья
Я вас, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!
(А.К. Толстой)
Николай Бердяев описывал своего
рода геополитической психологию русского народа: «Огромность России есть её
метафизическое свойство, а не только свойство её эмпирической истории. Великая
русская духовная культура может быть свойственна только огромной стране, огромному
народу. Великая русская литература могла возникнуть лишь у многочисленного
народа, живущего на огромной земле… Материальная география народа есть лишь
символическое отображение его духовной географии, географии души народа». Это
не исключает того, что «русское пространство и русская земля оказали большое
влияние на душу русского народа: недифференцированность и экстенсивность,
свобода и дионисизм… В душе западных народов нет шири, необъятности, избыточной
свободы, она слишком дифференцирована, сдавлена, повсюду натыкается на границы
и пределы… Равнинность России и необъятность её пространств есть внутреннее
измерение души русского народа… в ней бесконечные пространства, бесконечная
ширь, отсутствие границ и разделений, и ей раскрываются бесконечные горизонты,
бесконечная даль… Русский человек безмерно свободнее духом, свободнее в жизни,
свободнее в религиозной жизни, он менее связан формой, организацией, правом и
порядком… Эта свобода духа для русского человека изначальна, – бытийственная
дисциплина… У русских – иное чувство земли, и самая земля иная, чем у Запада.
Русским чужда мистика расы и крови, но очень близка мистика земли» (Н.А.
Бердяев).
Знаменитая широта русской души
соответствует необозримым российским пространствам: «Действовал своеобразный
пространственный императив, открывавший “за далью даль”. Ширь русской земли,
считал Федоров, рождала характеры предприимчивые, предназначенные для
географического и космического подвига» (А.В. Гулыга). Но русский человек
широк душой не только из-за русских просторов. Во многом и наоборот: русская
нация приобрела обширные пространства в силу изначальной широты души (раздольный
мир дан человеку для свободы). Безмерные устремления русского человека
подвигали его к освоению безбрежных земных просторов. Открытия новых земель
являлись следствием неких душевных перемен и духовных потребностей в русском
человеке. Осваиваемые просторы воспитывали определенные качества у народа. «Русскому
предназначено судьбою жить в суровой среде. Безжалостно требует от него
приспособления природа: укорачивает лето, затягивает зиму, печалит осенью,
соблазняет весной. Она дарует простор, но наполняет его ветром, дождем и
снегом. Она дарует равнину, но жизнь на этой равнине тяжела и сурова. Она
дарует прекрасные реки, но борьбу за их устье превращает в тяжелую историческую
задачу. Она дает выход в южные степи, но приводит оттуда грабителей – кочевые
народы. Она сулит плодородные земли в засушливых областях и одаривает лесным
богатством на болотах и топях. Закалка для русского является жизненной
необходимостью, изнеженности он не ведает. Природа требует от него выносливости
без меры, предписывает ему его житейскую мудрость во многих отношениях и за
любой бытийный шаг заставляет расплачиваться тяжким трудом и лишениями»
(И.А. Ильин).
Русский человек, любовно
обустраивая свою землю, органично формировал себя. «Склонность к созерцанию
– эту потребность конкретно, пластично и живо представлять предмет, тем самым
придавая ему форму и индивидуализируя его, – русский получил от своей природы и
от своего пространства. Столетиями видел он перед собой простирающиеся вширь
дали, манящие равнины, хотя и бесконечные, но всё же дающие надежду придать им
форму. Глаз упирается в неизмеримое и не может насытиться им. Облака, как горы,
громоздятся на горизонте и разряжаются величественной грозой. Зима и мороз,
снег и лед создают у него прекраснейшие видения. Северное сияние играет для
него свои воздушные симфонии. Суля смутные обещания, говорят с ним далекие
горы. Словно великолепные пути текут для него его реки. Для него скрывают моря
свои глубокие тайны. Ему поют благоуханные цветы и шепчут леса о житейском
счастье и мудрости. Свободное созерцание русскому дано от природы» (И.А.
Ильин).
Родная суровая природа отзывалась в
душе русского человека широчайшей гаммой чувств и качеств. «Вчувствование
стало для русского необходимостью и даром, судьбой и радостью. На протяжении
столетий жил он в колеблющемся ритме: горение или покой, сосредоточенность или
расслабленность, стремительность или сонливость, ликующий или сумеречный,
страстный или равнодушный, “радостный до небес – до смерти печальный”… но то,
что в этом же темпераменте остается дремотным и сокрытым – в покое и
расслабленности, равнодушии и лености, – позже пробуждается в нем, шумно и
страстно ликует. Это подобно пламени, которое погасло до поры, ослабленной
собранности и дремотной интенсивности, которые можно обнаружить в сиянии глаз,
в улыбке, в песне и в танце… Диапазон настроений и колебания даны ему от
природы… Надо непосредственно пережить все эти бушующие снежные вьюги, эти
впечатляющие весенние разливы, эти мощные ледоходы, эти сжигающие засухи, эти
полярные морозы, когда выплеснутая из стакана вода падает на землю кусками
льда, эти раскатистые разряды молний, чтобы понять, что русский всё это
воспринимает страстно и радуется могуществу мировой стихии. Он не знает страха
перед природой, пусть даже она ужасающе неистова и грозна: он сочувствует ей,
он следует за ней, он причастен к её темпераменту и её ритмам. Он наслаждается
пространством, легким, быстрым, напористым движением, ледоходом, лесною чащею,
оглушительными грозами. Но он упивается не столько “беспорядком” или
“разрушением” как таковыми, о чем безумно твердят некоторые в Западной Европе,
сколько интенсивностью бытия, мощью и красотой природных явлений,
непосредственной близостью её стихий, вчувствованием в Божественную сущность
мира, созерцанием хаоса, вглядыванием в первооснову и бездну бытия, откровением
Бога в нем. И даже более того: в хаосе он ощущает зов из космоса; в разладе он
предчувствует возникающую гармонию и будущую симфонию; мрачная бездна позволяет
ему увидеть Божественный свет; в безмерном и в бесконечном ищет он закон и
форму. Вот почему хаос природы является для него не беспорядком, не распадом
или гибелью, а, напротив, предвестием, первой ступенью к более высокому
пониманию, приближением к откровению: угрожает ли бездна поглотить его – он
обращает свой взор ввысь, как бы молится и заклинает стихию раскрыть ему свой
истинный облик» (И.А. Ильин). Из переживаний природы и воззрений на неё,
убеждён Иван Ильин, и «взялась эта русская тяга к полному достижению цели,
мечта о последнем и конечном, желание заглянуть в необозримую даль, способность
не страшиться смерти».
Население России жизнью своей было
привязано к земле – её просторам, ритмам, красоте, жёстким условиям. Поэтому «характер
русского народа – характер крестьянский. Черты этого характера – это доверчивое
смирение с судьбой, сострадательность, готовность помогать другим, делясь своим
насущным. Это – и способность к самоотвержению и самопожертвованию; готовность
к самоосуждению и публичному раскаянию; преувеличение своих слабостей и ошибок;
легкость умирания и эпическое спокойствие в принятии смерти; довольство
умеренным достатком и непогоня за богатством. (“Кто малым недоволен, тот
большого недостоин”)» (А.И. Солженицын).
Русский антиномизм
Биполярная духовность, наложенная
на необъятную и необузданную натуру русского человека, задает трагическую противоречивость
и максимализм русского характера. Русским свойственно бросаться из одних
крайностей в другие: от покорности к бунту, пассивности к сверхнапряжению, от
обыденности к героизму, от созидания к разрушению, от бережливости к
расточительству (от купца к ухарю). Широкий диапазон между полюсами задает
необъятный спектр характеристик и творческих возможностей: «О чём
свидетельствует эта широта и поляризованность русского человека? Прежде всего –
о громадном разнообразии возможностей, скрытых в русском характере, об
открытости выбора, о неожиданности нового, о возможности бунта против бунта,
организованности против неорганизованности, о внезапных проявлениях хорошего
против дурного, о внутренней свободе русского человека, в котором сквозь завесу
дурного может неожиданно вспыхнуть самое лучшее, чистое, совестливое» (Д.С.
Лихачев).
Антиномичность сказывалась в
безудержном русском темпераменте, склонном к крайностям:
Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой.
Коли пир, так пир горой!
(А.К. Толстой)
Русскому человеку непонятно, как
можно и зачем нужно много сил тратить на благоустройство и комфортабельность,
чем с энтузиазмом занят человек европейский. Русский человек не собирается
стабильно и удобно устраиваться на этом свете, он ему тесен, несмотря на
огромные пространства. Русские люди были вынуждены тратить все силы в борьбе за
выживание в жёстких условиях, но русский дух стремился за пределы серединного
царства – к сверхъестественному и безмерному. Поэтому русская цивилизация – это
цивилизация вдохновения и подвига, в которой непопулярна упорная, кропотливая
работа во имя повышения благосостояния. В европейской культуре жизненные идеалы
обмирщены, занижены, их реализация не требует сверхнапряжения и менее
драматична, чем в русской культуре, в которой завышенность идеалов чревата
срывами и катастрофами. Если европейские пороки – от приземленности идеалов, то
русские – это срывы при воплощении возвышенных идеалов. Русская душа страстно
тянется к небесному, но при потере жизненных основ и духовной ориентации не
удерживается в серединных измерениях и обрушивается в преисподнюю. Отчего
русский человек и предстает в истории либо в образе божеском, либо в обличии
зверском, он способен на проявления и неистовой религиозности, и неистового
богоборчества.
Мессианская энергетика проявляется
на разных уровнях культуры в противоположных направлениях. Когда сокрушались носители
культурного архетипа – традиции, жизненный уклад, то в слепом инстинкте могли
проявляться как созидательные, так и разрушительные порывы. Русский радикализм
и максимализм – «не от пресыщения, а, напротив, от жажды… Не только от
жажды, но даже от воспаления, от жажды горячешной!.. Наши как доберутся до
берега, как уверуют, что это берег, то уж так обрадуются ему, что немедленно
доходят до последних столпов… И не нас одних, а всю Европу дивит в таких
случаях русская страстность наша: у нас коль в католичество перейдет, то уж
непременно иезуитом станет, да ещё из самых подземных; коль атеистом станет, то
непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть, стало
быть, и мечом! Отчего это, отчего разом такое исступление?.. Оттого, что он
отечество нашел, которое здесь просмотрел, и обрадовался; берег, землю нашел и
бросился её целовать! Не из одного ведь тщеславия, не всё ведь от одних
скверных тщеславных чувств происходят русские атеисты и русские иезуиты, а и из
боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу,
по родине, в которую веровать перестали, потому что никогда её и не знали!
Атеистом же так легко сделаться русскому человеку, легче, чем всем остальным во
всем мире! И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в
атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова
наша жажда! Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет» (Ф.М.
Достоевский).
Онтологическая поляризация русской
души сказывается в различных измерениях и коренным образом отличает русского
человека от европейцев. «Француз – догматик и скептик, догматик на
положительном полюсе своей мысли и скептик на отрицательном полюсе. Немец –
мистик или критицист, мистик на положительном полюсе и критицист на отрицательном.
Русский же – апокалиптик или нигилист, апокалиптик – на положительном полюсе и
нигилист на отрицательном полюсе. Русский случай – самый крайний и самый
трудный. Француз и немец могут создавать культуру, ибо культуру можно создавать
догматически и скептически, можно создавать её мистически и критически. Но
трудно, очень трудно создавать культуру апокалиптически и нигилистически.
Культура может иметь под собой глубину, догматическую и мистическую, но она
предполагает, что за серединой жизненного процесса признается какая-то
ценность, что значение имеет не только абсолютное, но и относительное.
Апокалиптическое и нигилистическое самочувствие свергает всю середину
жизненного процесса, все исторические ступени, не хочет знать никаких ценностей
культуры, оно устремляет к концу, к пределу. Эти противоположности легко
переходят друг в друга… И у русского человека так переменно и так спутано
апокалиптическое и нигилистическое, что трудно бывает различить эти полярно
противоположные начала» (Н.А. Бердяев).
В данном случае необходимо
различать понятия. Эсхатология – это устремленность к Новому Небу и Новой
Земле, к горнему миру, к запредельному; апокалипсис же описывает трагедию конца
мира сего. Если эсхатологическое сознание сосредоточено на зарницах преображенного
мира, оно устремлено к началу Нового Бытия, то апокалиптическое сознание
заворожено неизбежностью абсолютной смерти всего в мироздании, оно зациклено на
конце старого мира. Целостное религиозное сознание охватывает обе перспективы –
и конца времен, и начал вечности. Одно без другого ограничено: апокалиптический
страх без эсхатологического чувства – гипнотизирует, эсхатологическая
устремленность без ощущения трагедии всеобщего конца – экзальтирует человека. Религиозная
аффективность, или маниакальная апокалиптичность, внедрена в русскую душу
иосифлянством, и с тех пор рецидивы её выплескиваются в трагические периоды
русской истории. Иначе обстоит дело с безрелигиозным сознанием, которое лишено
ощущения вечности, ограничено мирскими понятиями. Для него безысходно
пессимистическими становятся и представления о конце времен. Духовные чаяния и
слепая религиозная энергия безбожного человека концентрируются в узких мирских
границах и порождают фантомы. Секулярно-эсхатологическое сознание утопично, оно
порождает учение о тысячелетнем Царстве Божием на земле. Секулярно-апокалиптическое
сознание нигилистично, ибо маниакально зациклено на перспективах смерти. Первое
– это утопия созидания, второе – это мания всеотрицания и всеуничтожения.
Русское мессианское сознание при впадении в атеизм порождает характерно русские
формы утопизма и одержимости, связанные, как правило, с искажением
эсхатологических и апокалиптических чаяний. Через ложный героизм, искаженную
жертвенность, нигилистическое всеотрицание, стремление к разрушению – душа,
потерявшая Бога, устремляется к собственному концу и концу всеобщему. Здесь
секулярная апокалиптика перекрывает и побеждает эсхатологичность. Европеец в эсхатологической
одержимости зациклен на мире сем: он стремится к подчинению и порабощению всех
вокруг, насаждает железный порядок. Русский в апокалиптической мании разрушает,
истребляет всё и вся (вплоть до самосожжения старообрядцев – непредставимый в
Европе феномен).
Русский апокалиптик нетерпелив
потому, что не может терпеть самодостаточности серединного мира. «Апокалиптический
русский человек похож на первых христиан, которые, зная о близком пришествии
Спасителя, молились: «Да прейдет мир сей, да приидет Царствие Твое», что и
стало лейтмотивом новой русской культуры. Но русский человек не останавливается
на том месте, где остановились первые христиане. Он не намерен сложив руки
ждать, когда сей грешный мир погибнет от удара Божественного всемирного Судьи.
В своём апокалиптическом возбуждении русский уже не может ждать. Он должен
помочь, он должен соучаствовать. Он должен сам разрушить мир. Так отрицание
мира перерастает в стремление к его уничтожению. В этом сущность русского нигилизма.
Это – пессимизм в действии… Русский нигилизм имеет религиозную природу. Это религиозный
аффект, перешедший в отрицание. Это – религия уничтожения, предполагающая
существование высшего мира в качестве скрытого контраста. Ведь только по
сравнению с высшим миром действительность может вызывать такое отвращение.
Русский нигилист смотрит на свою разрушительную работу как на “творческое
наслаждение” (так выразился Бакунин). Смутно ощущает он низвержение
существующего порядка как облегчение возможности для грядущего, лучшего; как
жертву тому богу, которого он не знает или не хочет знать. Такой возвышенный
мыслитель, как Соловьев, и такой неистовый, как Бакунин, обладают одинаковым
глубинным пластом души, в котором коренятся как христианские ожидания спасения
одного, так и безбожные проклятия другого. В первом случае акцент делается на
позитивную сторону – упование на грядущее; во втором – на негативную, на
разрушение старого; и в зависимости от этого мы имеем дело с мессианским или с
нигилистическим типом. Но оба они имеют апокалиптическую душу, жаждущую конца
истории. Оглядываясь вокруг себя, они испытывают одно и то же щемящее чувство:
всего этого не должно быть. И лишь вопросом темперамента является – ждать ли
крушения мира в благоговейной надежде на милость Божию или стараться вызвать
конец собственными усилиями» (В. Шубарт).
Одни и те же качества национального
характера проявлялись по-разному в слоях, укорененных в традициях и
оторвавшихся от них. Некоторые пороки, приписываемые русскому характеру, были
пороками беспочвенных и маргинальных сословий. Некоторые черты русского
характера отзывались в послепетровском дворянстве и интеллигенции в негативном
преломлении. Так, беспочвенная русская интеллигенция была беспочвенна по-русски
страстно: истово, с надрывом; радикально нигилистична – до отрицания всякой
почвы как жизненной плоти. Секуляризованное сознание оставалось биполярным, но
отвергало мирские ценности не во имя Божественного, а тотально нигилистически. «Русская
интеллигенция в огромной массе своей никогда не сознавала себя имманентной
государству, Церковь, отечество, высшую духовную жизнь. Все эти ценности
представлялись ей трансцендентно-далекими и вызывали в ней враждебное чувство,
как что-то чуждое и насилующее. Никогда русская интеллигенция не переживала
истории и исторической судьбы как имманентной себе, как своего собственного
дела, и потому вела процесс против истории как против совершающегося над ней
насилия» (Н.А. Бердяев).
Рассуждения Вальтера Шубарта в
книге «Европа и душа Востока» о диалектике русской апокалиптичности в сравнении
с европейским серединным жизнеощущением заслуживают длительных ссылок, хотя с
оговоркой: «Много тонкого и верного сказал он о русской душе; но русского
духа не постиг» (И.А. Ильин). При этом нужно иметь в виду, что секуляризованная
апокалиптичность свойственна состояниям богооставленности или оторвавшимся от Бога
сословиям. Маниакальная апокалиптичность может проявляться и в искаженном
религиозном сознании. Но она не присуща здоровому состоянию русской души и не
воспитывается русской православной традицией. Вместе с тем отсутствие
серединной сбалансированности вбрасывает русского человека в крайности всякий
раз, когда рушится зыбкий жизненный космос.
Европеец и в достойном состоянии, и
в пороках прилепляется к мирским реалиям. Русский человек обустраивает жизнь во
имя праведных небесных идеалов, а рушит её во имя ложно понятых непрагматичных
идей. «Европейца вполне устраивает мир; он в нем уютно обживается и цепко
держится за земные блага; он – реалист. Реалистом он только и может быть,
поскольку разошелся с вечностью, русский же мало ценит мир. Внутренне он не привязан
ни к чему. Ничто не удерживает его надолго. Он недостаточно настроен на
действительность, недостаточно приспособлен для неё. Его не покидает удивление,
как это человек – подобие Бога – мог угодить в столь злосчастную мировую
историю. Его не покидает ощущение, что он на земле лишь гость. Поэтому земля
имеет над ним меньшую власть. Он более чем кто-либо сохраняет от её соблазнов
свою свободу души. Он может быть столь свободным только потому, что чувствует
поддержку вечности… Западная культура есть культура середины. Социально она
покоится на среднем сословии; психологически – на душевном состоянии середины.
Её добродетели – самообладание, воспитанность, деловитость, избежание
эксцессов. Россия всему этому полная противоположность. До 1917 года здесь носителем
культуры было не среднее сословие – его в России не было, – а… тонкий верхний
слой; основной же душевный настрой определялся не умеренностью, а стремлением к
крайностям, к концу. Современная русскость движется в рамках окраинной
культуры. Русским постоянно грозит опасность заблудиться в тумане, в то время
как европеец твердо стоит на земле обеими ногами – порою даже всеми четырьмя.
Поэтому среди образованных людей своего народа отдельный европеец выделяется
так незначительно, а русский – так привлекательно и живо. Европеец – порядочный
и прилежный, квалифицированный работник, безупречно функционирующий винтик
большого механизма. Вне своей профессии он едва ли принимается в расчет. Он
предпочитает путь золотой середины, и это обычно путь к золоту. Он заблуждается
на свой счет, принимая себя, как это особенно имеет место во Франции и
Германии, за духовное существо. Правда, французы и немцы высоко ценят
образовательный ценз, гораздо выше, чем англосаксы. Но духовной свободой и они
уже не обладают. Никто из них не отказался бы от материальных благ взамен на
духовные. Экономическое благосостояние, по крайней мере экономическая
защищенность, является для любого европейца условием, основой, а часто и целью
образования. Главная черта этой культуры – реализм, а не идеализм…
Путешественник по Европе сразу увлекается шумным ритмом её деятельных сил; до
его слуха доносится высокая мелодия труда, но это – при всем величии и мощи –
есть песнь о земле» (В. Шубарт).
Русский характер соткан из парадоксов:
будучи более «заоблачными», чем европейцы, русские смогли освоить грандиозные
пространства; менее европейцев укорененные в земном мире, русские проявляются в
нем сложнее и органичнее. Отсутствие серединного измерения сказывается во всем.
«Прометеевскому человеку присуще срединное состояние души. Это делает его
холодным, деловитым, постоянным, рассудительным. Русской душе чужда
срединность. У русского нет амортизирующей средней части – соединяющего звена
между двумя крайностями. В русском человеке контрасты – один к другому впритык,
и их жесткое трение растирает душу до ран. Тут грубость рядом с нежностью
сердца, жестокость рядом с сентиментальностью, чувственность рядом с аскезой,
греховность рядом со святостью. Россия – страна неограниченных духовных
возможностей. Русский – это каскад чувств. Одна эмоция внезапно и беспричинно
переходит в другую противоположность. Как много русских песен и танцев, в
которых резко сменяют друг друга веселье и грусть!.. Русскому свойственно
устремляться к противоположному полюсу… Судорожная хаотичность крайних
состояний очень легко лишает русского человека его больших врожденных
способностей к свободе и бросает его, без всякого сопротивления, в бездну
мирских соблазнов, – так что средний европеец, способный усилием воли удержать
себя от самых опасных увлечений и потрясений, кажется рядом с русским даже
гораздо свободнее. Когда русский свободен, он действует инстинктивно, из
слепого стремления к свободе, из презрения ко всему мирскому, в то время как
прометеевский человек добивается высшей точки доступной ему свободы только
сознательным напряжением воли. Когда порыв к сверхчувственному замирает,
русский слишком легко позволяет увлечь себя в вихрь страстей, в котором уже нет
свободы. Ему недостает организующей воли, которая поддерживает внутреннее
равновесие. В результате получается картина, часто используемая при сравнении
русских с европейцами: русский в своих вершинах может достичь таких высот,
какие недоступны ни одному европейцу; но русский человек в среднем часто
опускается ниже той линии, которую выдерживает средний европеец. В культуре
середины – середина уместна и таковой должна быть, ведь это она является опорой
культурной жизни. В культуре конца по-другому. Она с её крайностями вздымает
вверх могучие вершины, меж которых зияют жуткие пропасти. Европейская культура
процветает сегодня на высоком плоскогорье с незначительно выступающими
возвышениями; русская же напоминает разорванную горную цепь с дикими скалистыми
ущельями» (В. Шубарт).
Русский характер поляризован и в
соответствии с жизненным назначением, усилиями в разделении труда различных
слоев и культурных групп. В широкой душе большого народа на одном полюсе –
заземленный тип, на другом – воспаряющий к высям заоблачным; на одном – оседлые
труженики, смиренные тягловые мужи, на другом – вольные странники, освоители
новых пространств; на одном – консерваторы-охранители (отчего закономерно инертны
и погружены в материю, не хотят самодеятельности и активности), на
другом – вдохновенные творцы, открыватели новых духовных измерений. Но и те и
другие – по-разному созидатели, обустраивающие суровую землю. «У русского
народа с его ярко выраженной любовью к свободе было две возможности, два жизненных
пути: или терпеть, служить и жертвовать, или незаметно скрываться, уклоняться
от службы и бунтовать. В реальности шли и по тому, и по другому пути: более
добросовестные, но слабые натуры терпели, служили, жертвовали собой;
биологически более сильные, но скверные скрывались, уклонялись от службы,
бунтовали… Самые лучшие в плане благоразумия, верности, любви к Отечеству,
мужества, готовности к самопожертвованию всё принимали на себя и строили своё
государство; пассивные натуры, не обладающие особым мужеством, но
военнообязанные, гнулись, несли своё бремя, помогали первым и находили своё
утешение в вере. Это были два элемента общества, созидающие государство.
Биологически сильные любой ценой добивались свободы предпринимательства,
независимости в жизни, простора и воли и убегали; к ним примыкали лодыри,
гуляки, распутники, уголовные элементы. Этот процесс уклонения, увиливания,
бунтовщичества имел различные источники и причины – психологического,
природного, социального и исторического характера: 1. Жажду русских к
странствиям. 2. Татарские погромы вынуждали людей, лишившихся своего очага,
собираться в группы. 3. Они же заронили у многих вкус к разбою. 4. Манили
свободные земли. 5. И скрытное влечение к анархии тоже здесь играло свою роль:
веками, словно порывом ветра, носило русских по азиатским пустыням и южным
степям равнины… Эти люди сбивались в группы. Они назывались не разбойниками, не
гуляками, а «удалыми молодцами». Честный оседлый народ-труженик страдал от их
напора и завидовал их вольной, богатырской внешне, темпераментной жизни; народ
знал, что их путь разбоя и убийства – путь греха, и тем не менее воспевал сей
грешный путь в стихах и песнях; народ мечтал о романтических опасностях, о
романтических приключениях, о свободной от тягот жизни и идеализировал этот
путь: через свободу – к богатству… Из этих “удалых добрых молодцев” постепенно
складывалось казачество… Склонность к анархии находила себе убежище на
периферии, закреплялась то тут, то там на природных границах и начинала
завоевания; вслед за нею медленно и с затяжкой пробуждался инстинкт
национального самосохранения, воспитывал анархиствующих беглецов и превращал их
в национальных защитников пограничных рубежей» (И.А. Ильин). Такое
многообразие национальных типов говорит о богатом содержании национального
характера, а не о его антиномичном надломе. У большого народа – большая душа. А
у народа, вынужденного бороться за выживание в невиданно сложных и суровых
условиях, душа неизбежно усложненная, вмещающая многообразие свойств и
состояний. Некоторые антиномичные качества сочетались в русской душе в силу её
сложности, глубины и широты, что является тяжким бременем бытия, отчего
иронично говорил Ф.М. Достоевский: «Широк русский человек – хорошо бы
сузить».
Лев Аннинский описывает резкое
различие характеров русских людей, что выявляет глубинную русскую драму: «Легко
загораемся. И быстро гаснем. В непредсказуемой, головоломной, “незаконной”
ситуации – азартные игроки. При угрозе проигрыша – мгновенные неудачники.
Готовы на всё плюнуть и начать всё снова: на новом месте, в другой раз.
Поразительная уверенность, что места хватит и что других разов будет навалом.
Поразительный переход из уверенности в уныние и из уныния опять в уверенность.
Поразительная неустойчивость и непредсказуемость: непредсказуемость для самих
себя. Вы скажете: а легендарная русская стойкость? А смертное стояние на Шипке?
А русская готовность часами и сутками сидеть в окопе, выжидая выгодного момента
для атаки, месяцами и годами жить в землянке, трудясь для победы? Широкий смысл
этого национального качества общепризнан… Русский воюет привычно – на измор, на
износ. Его главная, фундаментальная черта в войне – стойкость. Выстоять! Как в
Бородинской битве, Толстым описанной. Как в 1941-м: стояли насмерть!.. Мы,
воюя, прежде всего стоим, и уж потом – пятимся, и уж потом – размахиваемся и
“врезаем”. И это воинское “стояние” – сродни, конечно, легендарному,
двужильному, невменяемому русскому терпению. Как же связать ртутную шукшинскую
подвижность русской души – с этой бездвижностью стояния-сидения? А вот так
напрямую и связать. Связка на разрыве. Скобы на трещине. Желание взять в обруч,
положить плаху, закрепить намертво, решить на вечные времена – от того же
инстинктивного, звериного чувства нестабильности, неустойчивости,
непредсказуемости. Чудовищный перевес импровизации над методичностью в основе
характера (талант сильнее ума) и чудовищные же усилия подавить этот безудерж –
незыблемым, чугунным бездвижьем: укротить шатость крепостью (община сильнее
индивида). Ощущение такое: не за что зацепиться, не на что опереться в “чистом
поле”. Тогда вбиваем кол и намертво держимся. Кто отойдет – предатель».
Драматический антиномизм русского
характера (покорность и бунтарство, вольность и рабство, созидание и
разрушение, стремление к гармонии и провалы в хаос…) основан на
некоторых врожденных свойствах. Но большинство из них усилено предельно тяжким историческим
бременем народа, душа которого поляризуется в драме истории, в напряженной
динамике духовных подъёмов и срывов. Многие срывы и надломы – от невероятно
напряженной жизни, это болезни роста и болезни выживания. Множество переворотов
и падений в русской истории объясняется катастрофичностью условий выживания:
нестабильность, неустойчивость и непредсказуемость были вполне объективными
жизненными факторами, а звериное чувство опасности только реагировало на
них. (Многие образованные русские люди тянулись к Европе как к уютному,
теплому, невзыскательному пространству из пространства суровейшего,
сверхвзыскательного.) Русский маятник, когда активность меняется бездействием,
сверхнапряжение – демобилизацией, является приобретенным механизмом выживания.
Полярные состояния не вполне органичны для обыденной жизни, поэтому при
сверхдинамизме и перенапряжении у народа могут «перегореть» некоторые механизмы
самоконтроля, а в состояниях пассивного безволия коварные вожди могут внушить
народу ложные помыслы и навязать пагубные действия. Болезненные крайности
приобретались в трагическом пути и мучительно изживались, не столько сочетаясь,
сколько чередуясь. Святая Русь – это духовный идеал и движитель судьбы России. Русская
смута – это трагический срыв и самозабвение народа, когда прирожденные
достоинства вытесняются паразитирующими на них пороками.
Загадочный парадокс русской
истории: народ освоил самые большие пространства, что свидетельствует о
невиданных силах; но жизнь на этих просторах обустроена гораздо меньше, при
огромных ресурсах уровень жизни гораздо ниже, чем на Западе. При ближайшем
рассмотрении одно является продолжением другого. Русские пространства являются
самыми суровыми среди цивилизованных стран, их защита от бесконечных нашествий
требовала огромных сил. Объективные условия бытия предопределяли в народном
хозяйстве низкий прибавочный продукт, большую часть которого приходилось
затрачивать на государственное самосохранение. Сил и талантов народа хватало на
то, чтобы так обустроиться. Этого было достаточно, чтобы не погрязнуть в
заботах о хлебе насущном или в стремлении к недостижимому комфорту и, главное,
сохранить силы для наиболее насущного – осмысления жизни, духовного творчества,
самосозидания и созидания культуры. Бердяев о русской противоречивости
Бердяев о русской противоречивости
Тему противоречивости русского
характера нередко искажают и примитивизируют. Это относится к тому, что Николай
Бердяев называл антиномичностью России, жуткой её противоречивостью: «Россия
– самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ –
самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю… Россия –
самая государственная и самая бюрократическая страна в мире, всё в России
превращается в орудие политики. Русский народ создал могущественнейшее в мире
государство, величайшую империю». Народ, создавший самое могущественное
в мире государство, можно назвать самым аполитичным народом, не умевшим
устраивать свою землю, только сквозь иллюзию «русского Запада», – всех
варягов и немцев всех веков не хватило бы на то, чтобы освоить эти безбрежные
пространства. Русский народ не мог позволить себе не обустраивать свою землю.
Антиномия, на которую указывал Бердяев, реально существовала в ином измерении: «Русская
история есть упорная борьба между порывом к свободе и жесткой государственной
необходимостью, между склонностью к анархии и инстинктом национального
самосохранения» (И.А. Ильин). Проявляя присущую ему свободу духа, русский
человек совершал невиданные исторические деяния; крайностью свободы была
анархия, которая вытеснялась на периферию жизни, иначе народ не сохранился бы.
Проявляя инстинкт национального самосохранения, русский народ обуздывал
анархию и отстраивал великое государство; крайним проявлением государственнического
инстинкта была деспотия, которая в России за тысячелетнюю историю проявилась
два раза: при Иване Грозном и Петре I. «К авторитарному мышлению русский
народ склонен меньше всего, за исключением закоснелой в марксизме
полуинтеллигенции» (И.А. Ильин).
Народ строил могучее государство,
ибо без него не сохранился бы в истории. Строительство шло соответственно
суровым условиям жизни, поэтому формы этого государства не похожи ни на какие
другие, особенно на государственные системы уютной и комфортной Европы, по
образу которых судят о России. Несмотря на то, что правящий европеизированный
слой стремился многое заимствовать в Европе, на русской почве жизнь требовала
свое, и всё обретало неповторимые формы. Отдавая государственному строительству
и самозащите огромные силы, народ умел приспособиться: в условиях неизбежного
государственного закрепощения русские люди сохраняли большую индивидуальную
независимость и свободу духа. Русские более индивидуальны, самобытны,
своеобразны, внутренне свободны, чем европейцы, поэтому хуже встраиваются в
организационные системы, эффективно способны действовать по ценностному
вдохновению. С таким же упорством, самоотдачей, аскетизмом и идеализмом, с
каким народ созидал свою государственность, беспочвенная интеллигенция её
попирала и разрушала. Русская интеллигенция, лишенная своего духовного
отечества, проявляла русский характер в противоположном направлении. Безродному
сословию Россия могла казаться самой бюрократической страной в мире,
хотя бюрократия в ней насаждается только со времен Петра I – по европейским
лекалам.
Усложняет в простом и сглаживает
сложности другая антиномия по Бердяеву: «Россия – страна безграничной
свободы духа, страна странничества и искания Божьей правды. Россия – самая
небуржуазная страна в мире; в ней нет того крепкого мещанства, которое так
отталкивает и отвращает русских на Западе… В русском народе поистине есть
свобода духа, которая дается лишь тому, кто не слишком поглощен жаждой земной
прибыли и земного благоустройства. Россия – страна бытовой свободы, неведомой
передовым народам Запада, закрепощенным мещанскими нормами, только в России нет
давящей власти буржуазных условностей, нет деспотизма мещанской семьи. Русский
человек с большей легкостью духа преодолевает всякую буржуазность, уходит от
всякого быта, от всякой нормированной жизни. Тип странника так характерен для
России и так прекрасен. Странник – самый свободный человек на земле. Он ходит
по земле, но стихия его воздушная, он не врос в землю, в нем нет приземистости.
Странник – свободен от “мира”, и вся тяжесть земли и земной жизни свелась для
него к небольшой котомке на плечах. Величие русского народа и призванность его
к высшей жизни сосредоточены в типе странника. Русский тип странника нашел себе
выражение не только в народной жизни, но и в жизни культурной, в жизни лучшей
части интеллигенции. И здесь мы знаем странников, свободных духом, ни к чему не
прикрепленных, вечных путников, ищущих невидимого града… Странники града своего
не имеют, они града грядущего ищут… Русской душе не сидится на месте, это не
мещанская душа, не местная душа. В России, в душе народной, есть какое-то
бесконечное искание, искание невидимого града Китежа, незримого дома. Перед
русской душой открываются дали, и нет очерченного горизонта перед духовными её
очами. Русская душа сгорает в пламенном искании правды, абсолютной,
Божественной правды и спасения для всего мира и всеобщего воскресения к новой
жизни. Она вечно печалуется о горе и страдании народа и всего мира, и мука её
не знает утоления. Душа эта поглощена решением конечных, проклятых вопросов о
смысле жизни. Есть мятежность, непокорность в русской душе, неутолимость и
неудовлетворимость ничем временным, относительным и условным. Всё дальше и
дальше должно идти, к концу, к пределу, к выходу из этого “мира”, из этой
земли, из всего местного, мещанского, прикрепленного… Россия – страна
бесконечной свободы и духовных далей, страна странников, скитальцев и
искателей, страна мятежная и жуткая в своей стихийности, в своем народном
дионисизме, не желающем знать формы».
Описанию духовной конституции
народа Н.А. Бердяев противополагает антитезис: «Россия – страна неслыханного
сервилизма и жуткой покорности, страна, лишенная сознания прав личности и не
защищающая достоинства личности, страна инертного консерватизма, порабощения
религиозной жизни государством, страна крепкого быта и тяжелой плоти. Россия –
страна купцов, погруженных в тяжелую плоть, стяжателей, консервативных до
неподвижности, страна чиновников, никогда не переступающих пределов замкнутого
и мертвого бюрократического царства, страна крестьян, ничего не желающих, кроме
земли, и принимающих христианство совершенно внешне и корыстно, страна
духовенства, погруженного в материальный быт, страна обрядоверия, страна
интеллигентщины, инертной и консервативной в своей мысли, зараженной самыми
поверхностными материалистическими идеями. Россия не любит красоты, боится
красоты, как роскоши, не хочет никакой избыточности. Россию почти невозможно
сдвинуть с места, так она отяжелела, так инертна, так ленива, так погружена в
материю, так покорно мирится со своей жизнью. Все наши сословия, наши почвенные
слои: дворянство, купечество, крестьянство, духовенство, чиновничество, – все
не хотят и не любят восхождения; все предпочитают оставаться в низинах, на
равнине, быть “как все”. Везде личность подавлена в органическом коллективе.
Почвенные слои наши лишены правосознания и даже достоинства, не хотят
самодеятельности и активности, всегда полагаются на то, что другие всё за них
сделают… Можно подумать, что личность не проснулась ещё не только в России
консервативной, но и в России революционной, что Россия всё ещё остается
страной безличного коллектива. Но необходимо понять, что исконный русский
коллективизм есть лишь преходящее явление первоначальной стадии натуральной
эволюции, а не вечное явление духа».
Здесь через запятую перечисляются
понятия из разных сфер, которые по природе вещей не могут противоречить друг
другу. Сильное государство необходимо народу для самосохранения, его требовал
не характер народа, а условия жизни. Жесткой государственной
регламентированности не противоречила большая, чем в Европе, свобода внутренней
и бытовой жизни. Отдельные суждения Бердяева противоречат действительности. Россия
не любит красоты, боится красоты – это при том, что русская созерцательность
носит более эстетический, чем рационалистический характер, в русской культуре
категория красоты играет большую роль. В так называемые немые века
средневековая Русь изъясняется прекрасным храмостроительством и гениальной
иконописью, чтит благолепие и благообразие уклада и быта. Русский
коллективизм – от природы, преображенный соборностью, – достоинство
русского характера, одна из форм его самосохранения и условие сохранения
народов вокруг себя. Инертной и ленивой многообразная,
напряженная русская жизнь могла казаться только через призму «русского Запада».
Пресловутой русской ленью называется механизм адаптации к труднейшим
условиям жизни, когда короткий период невыносимого труда в летнюю страду
сменялся расслаблением в осенне-зимний период. Европейские крестьяне могли
зимой обрабатывать поля для весеннего сева, в России морозы оставляли одну
возможность для выживания – зарыться вместе с домашними животными в снег и в
автономном микромире русской избы «лениво» дожидаться прихода тепла. Некоторые
национальные слабости указаны Бердяевым вполне бесспорно. Недостаток
правосознания в широких массах и в образованных слоях отчасти восполняется
чувством правды и нравственным чувством, а также традициями, что было причиной
многих драм в русской истории. Но это свойство не есть сторона антиномии (ибо
ничего ему не противостоит), а является следствием своеобразия русской истории.
Большая часть указанных Бердяевым
недостатков является общечеловеческими: чиновники никогда не переступают
пределов замкнутого и мертвого бюрократического царства во всех странах. К
тому же русский бюрократический аппарат отстраивался по европейским образцам.
Некоторый налет негативности у Бердяева можно объяснить его типично русской
самокритичностью. На деле неслыханного сервилизма и жуткой покорности в
России не больше, чем в простонародье других стран. Русский народ долготерпелив
не из-за раболепия, а в силу необходимости, иначе не выжить. Чего ждать ещё от
крестьян, ничего не желающих, кроме земли? В этом и состоит их жизненное
назначение. Неверно, что русское крестьянство принимает христианство
совершенно внешне и корыстно. Не любят восхождения и хотят быть, как все, –
это черта консервативного большинства населения во всех странах, русские
отличаются исключением из этого. Некоторые отрицательные свойства характеризуют
не нацию, а беспочвенные сословия: заимствованные в Европе поверхностные
материалистические идеи интеллигентщины не имеют отношения к русским
традициям и мировоззрению традиционных сословий. Порабощение религиозной
жизни государством в России осуществлено дворянской революцией Петра I, что
было насилием над традициями народа и над русским характером.
Русскому характеру свойственна
антиномичность, когда национальные достоинства сменяются пороками. При смене
состояния народа или радикальном изменении условий жизни народный дионисизм
и стихийность могли обернуться мятежом – русским бунтом.
Характер нравственности
В западной и в либеральной
отечественной публицистике много наговорено о русских варварстве и жестокости
на фоне европейской цивилизованности и добродетельности. Но если сравнить
нравственные идеалы и реальную жизнь народов, то возникает другая картина. В
русском языческом пантеоне не было бога войны, в то время как среди европейских
народов в дохристианских религиозных представлениях понятие о воинственном
божестве доминировало, весь эпос выстроен вокруг тем войн и завоеваний.
Интересны в этом смысле материалы, приведенные Виктором Калугиным в статье
«Идеалы русского эпоса». Во французской поэме «Песня о Роланде» повествуется о
крестовых походах и кровавых сражениях с иноверцами:
Пусть синагоги жгут, мечети
валят.
Берут они и ломы и кувалды,
Бьют идолов, кумиры сокрушают,
Чтоб колдовства и духу не
осталось.
Ревнует Карл о вере
христианской,
Велит он воду освятить прелатам
И мавров окрестить в купелях
наспех,
А если кто на это не согласен,
Тех вешать, жечь и убивать
нещадно.
Насильно крещены сто тысяч
мавров.
Русские войны велись в защиту
правой веры, «Тем не менее темы религиозной ненависти и религиозной мести в
русском народном эпосе попросту нет» (В. Калугин). Русский человек после
победы над иноверцами никогда не стремится насильственно обратить их в свою
веру, тем более наспех. В былине «Илья Муромец и Идолище» русский богатырь
освобождает Царьград от поганого Идолища, но отказывается быть воеводою
города и возвращается на родину. В средневековом европейском эпосе цель
крестовых походов – кто не убит в бою, тот окрещён, для чего рыцарь
готов вешать, жечь и убивать нещадно. Таким образом, «основная мысль
былин и древнерусских летописных воинских повестей – освобождение, рыцарских
хроник – завоевание, крещение иноверцев. Тема религиозной войны полностью
отсутствует в русском эпосе, точно так же как отсутствуют темы религиозной или
расовой непримиримости, вражды» (В. Калугин).
В древнерусской литературе
отсутствует тема обогащения при завоеваниях, разбоя, в то время как сюжеты на
эту тему распространены в западноевропейской литературе. Призыв «Песни о Сиде»:
«Нападайте дерзко, грабьте проворно… Грабя врагов, разоряя всю область».
Борьба за дележ добычи, боязнь оказаться обделенным, не получить свою долю
оказываются определяющими во всех подвигах Сида. Герои «Песни о Нибелунгах»
одержимы поиском зарытого клада – золота Рейна. Главный герой древней
английской поэмы «Беовульф» погибает, «насытив зренье игрой самоцветов и
блеском золота… В обмен на богатства жизнь положил я». Ни одному из героев
русского эпоса не приходит в голову жизнь положить в обмен на богатства.
Более того, Илья Муромец не способен принять откуп, предлагаемый разбойниками,
– «золотой казны, платья цветного и коней добрых сколько надобно». Он не
сомневаясь отвергает путь, где богату быть, но добровольно
испытывает дорогу, где убиту быть.
«Нет в русском эпосе и такого
традиционного императива (всеобщего обязательного нравственного закона,
которому подчинены все действия героя), как кровавая месть. “Старшая Эдда”,
“Песнь о Нибелунгах”, исландские саги, ирландский эпос, сказания о нартах и
многие другие национальные эпопеи основаны на долге мести за убитого родича, за
честь рода. В русском эпосе – не только в эпосе, но и в сказках, легендах,
песнях, пословицах, поговорках – долг личной или родовой чести не имеет ничего
общего с долгом личной или родовой мести. Понятие мести как таковое вообще
отсутствует в русском фольклоре, оно как бы изначально не заложено в
“генетическом коде” народа… Главные герои русского эпоса обычно предстают
крестовыми братьями, побратимами… Изначально сам обычай побратимства и кровного
братства был самым непосредственным образом связан с кровной местью, не
случайно и сама клятва скреплялась символическим смешением крови. Становясь
братьями по крови, побратимы брали на себя все обязательства выполнения прежде
всего кровной мести. Ничего подобного нет в русском народном эпосе. Идея
ратного побратимства имеет здесь совершенно иное значение и связана только с
обычаями крестного братства как помощи в беде, в болезни, в бою, а не мести и
не отмщения» (В. Калугин).
В целом русскому народному эпосу
более свойственны понятия о добродетели и целомудрии, чем западноевропейскому.
В нём нет «натуралистических подробностей в описаниях битв, того, как
“отделяется хребет спинной”, как копьем “пронзают утробу”, как меч Роланда
рассекает у противника “подшлемник, кудри, кожу”, проходит “меж глаз середкой
лобной кости” и выходит “через пах наружу снова”, как вылезают на землю “мозги
врага”, как сам Роланд видит, что смерть его близка, что у него “мозг начал
вытекать”, как затем из раны “наземь вывалился мозг”. Невозможно себе
представить русских богатырей, пьющих кровь врага, как это делают
рыцари-бургунды в “Песне о Нибелунгах”: “И к свежей ране трупа припал иссохшим
ртом. Впервые кровь он пил и всё ж доволен был питьем”. Ничего подобного нет ни
в одной русской былине» (В. Калугин).
Идеалы русского эпоса больше
соответствуют христианским нормам. Между идеалами и жизнью всегда существует
дистанция, но народ ориентируется на идеальные нормы и судит себя по ним. Не
случайно так плодотворно было принятие христианства – на Руси через век была
процветающая православная культура. Православие – религия любви и совести –
пробуждало совесть и побуждало к взыскательному нравственному самоконтролю. «Вообще
не интерес составляет главную пружину, главную двигательную силу русского
народа, а внутреннее нравственное сознание, медленно подготовляющееся в его
духовном организме, но всецело охватывающее его, когда настанет время для его
внешнего практического обнаружения и осуществления» (Н.Я. Данилевский).
Шкалой ценностей и основной жизненной мотивацией русского человека является
идеал сам по себе. У западного же человека доминирует достижение индивидуальных
жизненных интересов.
Русские в целом грешили меньше
европейцев, а каялись больше. При всех исторических испытаниях уровень их
общественной нравственности во все века, а временами и уровень правосознания
был выше европейского. «Пытка отменена в России тогда, когда она
существовала почти во всех судах Европы, когда Франция и Германия говорили об
ней без стыда и полагали её необходимою для отыскания и наказания преступников»
(А.С. Хомяков). На Русской земле невозможно представить реестр индульгенций,
указывающий, за какие провинности и в каких размерах взимаются штрафы с монахов
и монахинь, за какое количество незаконнорожденных детей аббатиса подвергается
обложению налогом. На Руси не приходилось сводом законов и денежными штрафами
пресекать разврат в монастырях католической Европы. В Италии эпохи Возрождения «священнослужители
содержат мясные лавки, кабаки, игорные и публичные дома, так что приходится
неоднократно издавать декреты, запрещающие священникам “ради денег делаться
сводниками проституток”, но всё напрасно. Монахи читают “Декамерон” и предаются
оргиям, а в грязных стоках находят детские скелеты как последствия этих оргий.
Тогдашние писатели сравнивают монастыри то с разбойничьими вертепами, то с
непотребными домами… В церквах пьянствуют и пируют, перед чудотворными иконами
развешаны по обету изображения половых органов, исцеленных этими иконами.
Францисканские монахи изгоняются из города Реджио за грубые и скандальные
нарушения общественной нравственности, позднее за то же из этого же города
изгоняются и доминиканские монахи» (А.Ф. Лосев). Ничего близкого не было в
русской церковной жизни.
Невозможно представить, чтобы
православный митрополит или патриарх предавались таким порокам, какие были
распространены в средневековом Ватикане, или вообразить распущенность нравов в
высшем духовенстве, распространенную при папском дворе: «Папа Александр VI,
будучи кардиналом, имел четырех незаконных детей… а за год до своего вступления
на папский престол, уже будучи 60 лет, вступил в сожительство с 17-летней, от
которой вскоре имел дочь… Современники сообщают также, что он сожительствовал
со своей дочерью Лукрецией, которая также была любовницей своего брата Цезаря,
и что эта Лукреция родила ребенка не то от отца, не то от брата. Имели
незаконных детей также и папы Пий II, Иннокентий VIII, Юлий II, Павел III; все
они – папы-гуманисты, известные покровители возрожденческих искусств и наук»
(А.Ф. Лосев). Увеселительные празднества с отравлениями в виде десерта –
обыденное явление при папском дворе: «Папа Александр VI и его сын Цезарь
Борджиа собирают на свои ночные оргии до 50 куртизанок… Он торговал
должностями, милостынями и отпущением грехов. Ни один кардинал не был назначен
при нем, не заплатив большую сумму. Александр VI умер, отравившись конфетой,
приготовленной им для одного богатого кардинала. При Юлии II в Ватикане
происходил бой быков. Папа Лев X был страстным охотником и очень любил
маскарады, игры и придворных шутов… Широкое распространение получает
порнографическая литература и живопись… В Ватикане при Льве X ставят
непристойные комедии… причем декорации к некоторым из этих комедий писались
Рафаэлем; при представлении папа стоит в дверях зала, и входящие гости подходят
к нему под благословение… Нередко по политическим соображениям высшими
духовными лицами, кардиналами и епископами, назначаются несовершеннолетние
дети» (А.Ф. Лосев).
Балтазар Косса, живший в XV веке, в
юности был пиратом, разбойником, затем принял духовный сан и, наконец, стал
папой Иоанном XIII. О нравственном обращении речи не было, страсть к женщинам в
нем не ослабевала. Иоанн XIII предавался разнообразным любовным утехам и сделал
своей любовницей 14-летнюю внучку, до этого соблазнив свою сестру и мать. Затем
он предложил свою внучку-любовницу в жены неаполитанскому королю, после чего
отравил обоих любовным снадобьем. Для увеличения ватиканской казны папа
установил тарифы на индульгенции: за убийство матери и отца – 1 дукат, за убийство
жены – 2 дуката, за жизнь священника – 4, епископа – 9, за прелюбодеяние – 8,
за скотоложство – 12 дукатов. Собор епископов вынужден был низложить такого
папу, но он всё же был оставлен епископом. При всех жестокостях средневековых
нравов на Руси подобное невозможно представить. Так же как немыслима на Руси и
европейская распущенность епископата – тайная и явная.
Если таковыми были нравы высшего
духовенства, то можно себе представить уровень морали европейского светского
общества. «В Риме в 1490 г. насчитывалось 6800 проституток, а в Венеции в
1509 г. их было 11 тысяч… Бывали времена, когда институт куртизанок приходилось
специально поощрять, поскольку уж слишком распространился “гнусный грех”.
Проституткам специально запрещалось одеваться в мужскую одежду и делать себе
мужские прически, чтобы таким образом вернее заманивать мужчин… Неаполитанский
король Ферранте (1458–1494) … внушал ужас всем своим современникам. Он сажал
своих врагов в клетки, издевался над ними, откармливал их, а затем отрубал их головы
и приказывал засаливать их тела. Он одевал мумии в самые дорогие наряды,
рассаживал их вдоль стен погреба, устраивая у себя во дворце целую галерею,
которую и посещал в “добрые” минуты. При одном воспоминании о своих жертвах он
заливался смехом. Этот Ферранте отравлял в венецианских церквах чаши со святой
водой, чтобы отомстить венецианской сеньории, предательски убивал нередко прямо
за своим столом доверившихся ему людей и насильно овладевал женщинами»
(А.Ф. Лосев). Подобными описаниями пестрят европейские хроники Возрождения, в
то время как в русской истории невозможно обнаружить ничего подобного. Ещё один
пример европейской «цивилизованности»: «В начале XIII века в Европе было 19
тысяч лепрозориев. В них не лечили, туда запирали. Разгул болезней не должен
удивлять: в тогдашней Европе не было бань» (А.Б. Горянин).
Русским свойственна деликатность к
другим и требовательность к себе, самокритичность. «Способность отрешиться
на время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже
сама по себе признак величайшей особенности… В русском человеке видна самая
полная способность самой здравой над собой критики, самого трезвого на себя
взгляда и отсутствие всякого самовозвышения, вредящего свободе действия»
(Ф.М. Достоевский). Самокритичность русских людей нередко бывает
гипертрофированной. «Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои
недостатки и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно
бичевать самого себя; иногда даже он несправедлив к самому себе, – во имя
негодующей любви к правде, истине» (Ф.М. Достоевский). С Достоевским
солидарен современный автор: «Всякий настоящий русский, если только он не
насилует собственной природы, смертельно боится перехвалить своё – и правильно
делает, потому что ему это не идет. Нам не дано самоутверждаться – ни
индивидуально, ни национально – с той как бы невинностью, как бы чистой
совестью, с тем отсутствием сомнений и проблем, как это удается порой другим.
(Пожалуй, такая констатация тоже имеет отношение к характеристике русской
духовности.) Но русские эксцессы самоиронии, “самоедства”, отлично известные из
всего опыта нашей культуры, тоже опасное искушение» (С.С. Аверинцев).
Многие «чудовищные» факты русской
истории являются таковыми потому, что так их оценило нравственное чувство
народа и такую их оценку сохранила народная память. В Европе было больше
злодеяний, но там они не воспринимались как что-то из ряда вон выходящее. Можно
представить, какую мораль внедряла святая инквизиция: «Секретность
расследования дел еретиков, почти полное отсутствие каких-нибудь точно
соблюдаемых правил судопроизводства, беспощадное отношение к подсудимым,
конфискация имущества подсудимых и их родственников, пытки и жесточайшие
наказания вплоть до сожжения на костре, полная неподчинённость не только
светским, но даже и церковным правителям, фантастические преувеличения
совершенных преступлений, которые никогда не совершались, крайняя мнительность
и придирчивость инквизиторов, их патологическая подозрительность – всё это раз
навсегда заклеймило инквизиционные суды эпохи Ренессанса» (А.Ф. Лосев).
В 1568 году инквизиция осудила на
смерть большинство жителей Нидерландов. Примерно в это же время саксонский
судья Карпцоф казнил в Саксонии двадцать тысяч человек. За сто пятьдесят лет до
конца XVI века в Испании, Италии и Германии было сожжено тридцать тысяч
«ведьм». В «гуманной» и «просвещенной» Европе такие явления были сплошь и
рядом, при этом европейцы считали себя наиболее просвещёнными и гуманными – с
как бы невинностью, как бы чистой совестью, с отсутствием сомнений и проблем.
«При самом жестоком царе Иване IV, как точно установлено новейшими
исследованиями, в России было казнено от 3 до 4 тысяч человек, а при короле
Генрихе VIII, правившем в Англии (1509–1547) … только за “бродяжничество” было
повешено 72 тысячи согнанных с земли в ходе так называемых “огораживаний”
крестьян» (В.В. Кожинов). Для русского исторического нравственного
самосознания Грозный явился тираном, в европейской истории Генрих VIII
действовал по закону. Непредвзятый взгляд западного ученого вынуждает прийти к
выводам, что на Руси «распущенность была, по меньшей мере, частично,
западной природы. Если говорить о водке и венерических болезнях, двух главных
проклятиях России в конце XV и начале XVI в., то они представляются
сомнительным наследием, которое итальянский Ренессанс завещал молодой России»
(Д.Х. Биллингтон).
В XVIII веке в России на несколько
десятилетий была отменена смертная казнь. Вот как заканчивается столетие в
просвещенной Франции: «Гильотина и “рота Марата” в вязаных колпаках работают
без отдыха, гильотинируют маленьких детей и стариков… Революционный трибунал и
военная комиссия, находящиеся там, гильотинируют, расстреливают… в канавах
площади Терро течет кровь; Рона несет обезглавленные трупы… 12 тысяч каменщиков
вытребованы из окрестностей, чтобы срыть Тулон с лица земли… 90 священников
были утоплены депутатом Каррье в Лувре… Женщин и мужчин связывают вместе за
руки и за ноги и бросают в реку» (Карлейль). Это годы революции, которую
французы до сих пор называют «Великой», нравственно оправдывая её зверства. «В
1826 г. в России были повешены пять декабристов, а позднее, в 1848 г., во
Франции были расстреляны за бунт против закрытия “национальных мастерских” 11
тысяч (!) из потерявших средства к существованию и потому восставших рабочих»
(В.В. Кожинов). На Руси при Иване Грозном и в Смутное время не знали таких
массовых зверств, как в Варфоломеевскую ночь во Франции. Но русское сознание и
русские летописи адекватно оценивали свои национальные пороки. Эта критическая
самооценка некритично воспринималась историками. Отсюда неадекватные
представления о жестокости русской истории и гуманности европейской.
Показательна нравственная
характеристика проницательного А.С. Пушкина прогрессивной западной цивилизации,
в которой сгустились многие типические черты западноевропейского человека: «Несколько
глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений
американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно
уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего
просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в её
отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом
тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую –
подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству (comfort); большинство,
нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы;
родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей
алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из
уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач,
надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им
втайне презираемой; такова картина Американских Штатов, недавно выставленная
перед нами».
Размышления о состоянии
человеческой нравственности приводят к грустной гипотезе. В каждом обществе и
народе достаточно стабильным остается соотношение человеческих типов,
выражающих уровень нравственно-духовного преображения: 1) полноценная, духовно
преображенная личность; 2) нравственно просвещенный человек; 3)
индивидуалистическая эгоистическая самость; 4) звериная самость.
1) Судя по всему, во все времена во
всяком обществе остается в меньшинстве количество людей подлинно совестливых,
собственно нравственных, способных мотивировать своё поведение и отношение к
окружающим совестью как повелевающей силой души – Божией силой.
Свободное самоопределение духовно преображенной личности проявляется в
спонтанной органичной любви, доброте, милосердии, долге, которые можно
искоренить только с уничтожением самого человека. При невыносимых страданиях
развоплощаются достойнейшие и сильнейшие, только единичные герои и праведники в
любых обстоятельствах предпочитали гибель потере Божественного достоинства
человека. В жизни христианских подвижников и праведников доминировало свободное
самоопределение на Божественный призыв Нагорной проповеди. Собственно совесть
означает сопричастие вести Божией, со-весть – это голос Божий в
человеческой душе. Праведники были маяками, на которые ориентировалось и светом
которых подпитывалось нравственное чувство людей.
2) Меньшая часть человеческого
сообщества в обыденных и в экстремальных ситуациях руководствуется внутренним
тяготением к добру. У неё чувство стыда, в котором выражается понимание своего
несоответствия нравственным нормам, является более сильным (чем голос совести)
нравственным императивом. Для людей с нравственной регуляцией важно наличие
традиций, являющихся носителем системы ценностей, ибо их самоопределение
нуждается в духовных авторитетах, попрание которых влечет за собой нравственную
деградацию и людей достойных.
Малая часть духовных и нравственных
пассионариев медленно прирастает в человечестве, в чем, очевидно, и состоит
смысл истории. Рост и свободное самоопределение человеческой личности нуждается
в защите общественными институтами.
3) Большинство людей
руководствуется чувством страха перед авторитетом либо страхом наказания
больше, чем голосом совести или чувством стыда. Оно тяготеет ко внешним
повелениям со стороны признанного авторитета, нуждается в правовой регуляции,
ибо в бесконтрольной ситуации склонно к проявлениям индивидуалистического
эгоизма, вплоть до агрессии. Авторитетные традиции повелевают гипнозом
сакральности, государственный авторитет устанавливает и охраняет границы
дозволенного, сковывая хаос и агрессию. Многие люди не творят зла потому, что
боятся наказания – на небе или на земле. Персонификация на уровне человеческого
индивидуализма – это потенция человечности, плацдарм человеческого бытия, на
котором идет битва за вочеловечение эгоистической самости. Из первой точки в
человеческом бытии предстоит тяжелейшими усилиями прорастить человеческую
индивидуальность, дающую основания для взращивания человеческой личности.
4) Малочисленную часть общества,
склонную к патологически агрессивному самоутверждению, не способна обуздать
угроза наказания, чем объясняется неуничтожимость преступности. Чёрный осадок
человечества для сохранения человеческого облика нуждается в регуляции
принуждением и насилием. Эти недочеловеки по своим душевным качествам ближе к
самоутверждающейся животной самости в облике человека.
Таким образом, большинство людей
потенциально готовы преступить нравственный императив, если отсутствуют внешнее
повеление и авторитетный контроль. При девальвировании или разрушении
традиционного жизненного уклада и государственных институтов, распадении
порядка многие вполне добропорядочные люди звереют, становятся ворами,
садистами и убийцами. Поэтому самая свирепая диктатура оказывается меньшим
злом, чем социальный хаос. Таким образом, локальное зло (государственное
насилие) слабее зла тотального, в которое впадает общество при социальных
потрясениях и разрушении традиционных общественных институтов.
Линия разделения добра и зла
проходит не между людьми, а по сердцам человеческим, душа человека и является
полем битвы дьявола с Богом. Поэтому нет и не может быть извечно
предопределенных праведников и преступников, каждая душа наделена Творцом возможностями
для спасения. Но это – в измерении вечности, в пределах же земной жизни мы
можем констатировать, что совесть – искра Божия – во многих душах заглушена или
слабо проявлена и нуждается во внешнем пробуждении либо благотворном
подкреплении.
Историческое сравнение дает
основания утверждать, что в русском народе часть людей, изначально духовно и
нравственно ориентированных, во все времена была большей, нежели у европейских
народов. Если мораль – это общепринятые в конкретном обществе нормы общественных
взаимоотношений, а нравственность – нормы и мотивы личного поведения людей, то
западноевропейское общество и человек более моралистичны, а русское общество и
человек более нравственны. В русской культуре индивидуальный человек является
носителем духовных ценностей и нравственности больше, чем общественные
институты и нормы, в западноевропейской же культуре наоборот. На Руси высшим
носителем идеала является святой, то есть живой человек, в западноевропейской
цивилизации общественные ценности диктуют облик человека, его образ жизни и
поведения. Поэтому Европа больше нуждалась в наращивании традиций права и
государственных институтов (даже Церковь там во многом является инстанцией
юридической, а не духовной регуляции), которые позволяли сковывать демонический
хаос и агрессию в человеке. Попрание общественных институтов приводило в Европе
к невиданным для Руси-России массовым злодеяниям. Под покровом упорядоченности
у европейского человека шевелится больший хаос, чем у русского. На Руси во все
века было множество праведников – светильников жизни, облагораживающих духовный
и нравственный климат эпохи. Государственные и общественные институты были
носителями более нравственного, нежели правового авторитета, поэтому на Руси – не
в силе Бог, а в правде. Это проявления характера сильного и доброго: «Русский
человек способен выносить страдание лучше западного, и вместе с тем он
исключительно чувствителен к страданию, он более сострадателен, чем человек
западный» (Н.А. Бердяев).
Отсутствие серединной культуры и
стремление жить в мире сем по мерам не от мира сего превращали доброделание на
Руси в неформальное. Русский человек не законник. Моральное повеление
воспринималось не по букве, а по духу, не как формальный императив, а как призыв
сердца. Добро и зло на Руси были больше духовными, чем юридическими
категориями. Русский творит добро не по долгу и требованиям нравственного
закона, а по любви и естественному тяготению к добру: не потому, что так
поступать должно, а потому, что иначе поступить не может – так велит сердце. Не
случайно в русском языке слова «праведность» и «правда» – одного корня. «Русская
добродетель – это добродетель сердца и совести. Здесь всё основано не на
моральной рефлексии, не на “проклятом долге и обязанности”, не на
принудительной дисциплине или страхе греховности, а скорее на свободной доброте
и на несколько мечтательном, порою сердечном созерцании. Сердечная доброта,
сострадание, дух самопожертвования и определенное стремление к совершенству
играют здесь решающую роль» (И.А. Ильин). Молодая среди христианских
народов русская душа не сформировала ещё внутренней императивной ограды от зла.
Охраняет её от злых стихий традиционный жизненный уклад, но при внешней защите
не устоялась система внутренних норм и критериев. Отсюда русский человек
меньше, чем западный человек, нуждается в формальном повелении для
доброделания, но ему крайне необходима ограда традиционных ценностей для защиты
от зла и соблазнов.
И в этом отличие русского человека
от западноевропейского. «Европа не знает нас… потому, что ей чуждо
славянорусское созерцание мира, природы и человека. Западноевропейское
человечество движется волею и рассудком. Русский человек живет, прежде всего,
сердцем и воображением и лишь потом волею и умом. Поэтому средний европеец
стыдится искренности, совести и доброты как “глупости”; русский человек,
наоборот, ждет от человека, прежде всего, доброты, совести и искренности.
Европейское правосознание формально, черство и уравнительно; русское –
бесформенно, добродушно и справедливо. Европеец, воспитанный Римом, презирает
про себя другие народы (и европейские тоже) и желает властвовать над ними; зато
требует внутри государства формальной “свободы” и формальной “демократии”.
Русский человек всегда наслаждался естественной свободой своего пространства…
Он всегда “удивлялся” другим народам, добродушно с ними уживался и ненавидел
только вторгающихся поработителей, он ценил свободу духа выше формальной
правовой свободы. Из всего этого выросло глубокое различие между западной и восточнорусской
культурой. У нас вся культура – иная, своя, притом потому, что у нас иной,
особый духовный уклад. У нас совсем иные храмы, иное богослужение, иная
доброта, иная храбрость, иной семейный уклад; у нас совсем другая литература,
другая музыка, театр, живопись, танец; не такая наука, не такая медицина, не
такой суд, не такое отношение к преступлению, не такое чувство ранга, не такое
отношение к нашим героям, гениям и царям. И притом наша душа открыта для
западной культуры: мы её видим, изучаем, знаем и если есть чему, то учимся у
неё… У нас есть дар вчувствования и перевоплощения. У европейцев этого дара
нет. Они понимают только то, что на них похоже, но и то искажая всё на свой
лад. Для них русское инородно, беспокойно, чуждо, странно, непривлекательно»
(И.А. Ильин).
О милосердии и справедливости
русского человека свидетельствует добрососедское отношение к народам
присоединенных территорий. Русский народ творил несравненно меньше злодеяний,
чем просвещенные европейцы на завоеванных землях. В национальной психологии
было некое сдерживающее нравственное начало. Русскому образованному обществу
было стыдно за «притеснение национальных окраин», в то время как никакому
европейскому обществу никогда не было стыдно за то, что натворили европейцы на
нескольких материках. Нравственная взыскательность к себе проявлялась в том,
что русский народ не подчеркивал своего нравственного превосходства. На Руси
редки нравственная гордыня и самоуспокоенность. Критика Запада – славянофилами,
например, – проходила по совершенно другим линиям. Русь в восприятии русского
человека – это не царство праведников, а хранительница правды: мы не лучше
других, но во многом больше других различаем добро и зло.
Православие воспитывало в русском
народе духовную свободу, открытость и отзывчивость, терпимость: «Максимальная
в истории человечества расовая и классовая, религиозная и просто терпимость»
(И.Л. Солоневич). Многие мыслители описывали эти русские черты характера. «Русским
присущи открытость другим культурам, терпимость, стремление понять и принять
инакодумающего и инаковерующего. Ужиться с ним… Отсюда характерная черта,
подмеченная Достоевским, – “всемирная отзывчивость”, то есть способность
откликнуться на чужую беду, пережить её как свою, помочь, порадоваться радости
другого, принять его в свою среду, перевоплотиться самому» (А.В. Гулыга). В
отношении к другим сказывалась русская всечеловечность. «Русская душа… гений
народа русского, может быть, наиболее способны из всех народов вместить в себя
идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего
враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия»
(Ф.М. Достоевский).
Народ выстраивал свою жизнь по зову
сердца, а не по внешнему повелению: «Русскому свойственна внутренняя
свобода, для него не существует искусственно придуманных запретов. Он живет без
усилий, “в нем бьется жизнь”. Он чересчур эмоционален и экспансивен, в
большинстве случаев весьма общителен, участлив, дружелюбен, снисходителен и
совсем по-особому гостеприимен. Его любезность не придумана, не церемонна, не
фальшива; напротив, она непосредственна, изобретательна, импровизационна, легко
переходит в деликатное, нежное чувство» (И.А. Ильин). Подобные качества
способствовали гармоничному общежитию со множеством народов. «Готовность к прощению
опять-таки раскрывает в себе русское предназначение к свободе. Прощающий
избавляется от обиды, ему нанесенной. Тем самым он не только освобождает
грешника от бремени его вины, но и себя – от гнета ненависти к нему, тогда как
месть продолжает связывать мстителя с преступником и лишает его возможности
самоопределения. Идея всепрощающей любви неразрывно связана со свободой, идея
отмщающего права – с зависимостью» (В. Шубарт).
Характер большого народа
проявляется в универсализме мышления и оценок, в глобализме исторических
деяний, в интернационализме, выражающем русскую соборность, при этом всегда и
всеми силами защищалось свое, национальное. Для русских не характерны
ксенофобские настроения, о чем свидетельствуют пронизанная заимствованиями
русская культура, многонациональная жизнь столиц, множество представителей
инородцев в российской власти во все века. Подобное невозможно представить в
европейских странах. Интернационализм и космополитизм американской цивилизации
выстроены на костях несогласных. Русская цивилизация строилась соборно,
совместно со всеми народами Евразийского континента.
От природы сильный, выносливый,
динамичный народ был наделён удивительной выживаемостью. На силе духа
основывались и знаменитое русское долготерпение, и терпимость к другим: «Подвиг
есть и в сраженье,/ Подвиг есть и в борьбе;/ Высший подвиг в терпенье,/ Любви и
мольбе» (А.С. Хомяков). Под непрерывными нашествиями со всех сторон, в
невероятно суровых климатических и геополитических условиях русский народ
колонизировал огромные территории, не истребив, не поработив, не ограбив и не
перекрестив насильственно ни один народ. «На базе Империи Российской никто
из русских народов не заработал ничего. Ни копейки. Даже и русское дворянство,
в значительной степени игравшее роль организаторов империи, не получило ничего:
ни в Сибири, ни на Кавказе, ни в Финляндии, ни в Польше. Для русского мужика не
было отнято ни одного клочка земли: ни от финнов, ни от поляков, ни от грузин»
(И.Л. Солоневич). Колониальная политика западноевропейских народов искоренила
аборигенов трех материков, превратила в рабов население огромной Африки
(оставшихся крестили огнем и мечом), и неизменно метрополии богатели за счет
колоний. Ибо у западноевропейских народов, по признанию О. Шпенглера, преобладали
«фаустовский инстинкт… требующий пространства для собственной деятельности,
воля к власти, также и в области нравственного, стремление придать своей морали
всеобщее значение, принудить человечество подчиниться ей, желание всякую иную
мораль переиначить, преодолеть, уничтожить… Кто иначе думает, чувствует,
желает, тот дурен, отступник, тот враг. С ним надо бороться без пощады».
Русский народ, ведя не только
оборонительные войны, присоединяя, как и все большие народы, большие
территории, нигде не обращался с завоеванными, как европейцы. От европейских
завоеваний лучше жилось европейским народам, ограбление колоний обогащало
метрополии. Русский народ не грабил ни Сибирь, ни Среднюю Азию, ни Кавказ, ни
Прибалтику. Россия до 1917 года сохранила каждый народ, в неё вошедший. Она
была их защитницей, обеспечивала им право на землю, собственность, на веру,
обычаи, культуру. Россия никогда не была националистическим государством, она
принадлежала одновременно всем в ней живущим. Русский народ имел только одно
«преимущество» – нести бремя государственного строительства. В результате было
создано уникальное в мировой истории государство: «Империя – это,
действительно, “мир” – настоящая империя. Ибо империя есть сообщество народов,
уживающихся вместе. Это есть школа воспитания человеческих чувств, так слабо
представленных в человеческой истории. Это есть общность. Это есть отсутствие
границ, таможен, перегородок, провинциализма, феодальных войн и феодальной
психологии… Русская империя была благом, она заменила и на Кавказе, и в Средней
Азии, и в десятках других мест бесконечную и бессмысленную войну всех против
всех с таким государственным порядком, какого и сейчас нигде в мире больше нет.
И если в дружинах первых киевских князей были и торки, и берендеи, то у
престола русских императоров были и поляки, и немцы, и армяне, и татары. И ни
один народец в России не третировался так, как в США третировались негры или в
Южной Азии – индусы. И ни одна окраина России не подвергалась такому обращению,
какому подвергалась Ирландия» (И.Л. Солоневич).
Русская колонизация принципиально
отличается от европейской. Никакие внешние обстоятельства не мешали русским
вести себя на присоединенных территориях, как европейцы. Кавказцы защищались
так же свирепо, как индейцы Северной Америки, Средняя Азия обладала
богатствами, как государства инков и ацтеков в Южной Америке, народы Сибири
отличались низким уровнем цивилизации, как аборигены Австралии, но нигде эти
схожие обстоятельства не смогли заставить русских вести себя по-европейски.
Необходимо признать очевидный факт, который мешает признать русская гиперсамокритичность
и внешняя необъективность: русский народ в аналогичных с европейскими
обстоятельствах вел себя далеко не аналогичным образом и проявил несравненную
человечность, терпимость, доброту. «Политическая история мира есть история
крови, грязи и зверства. Кровью, грязью и зверством пропитана и наша история.
Однако и крови, и грязи, и зверства у нас было меньше, чем где бы то ни было в
других местах земного шара и в других одновременных точках истории» (И.Л.
Солоневич). Русские создавали свою империю, руководствуясь своими жизненными
интересами, при этом эти жизненные интересы не противостояли другим народам,
поэтому это было государство для всех народов, его населяющих. «Я отстаиваю
идею русского империализма, то есть идею построения великого и
многонационального “содружества наций”… Всякий великий народ есть народ
империалистический, ибо всякий хочет построить империю и всякий хочет построить
её на свой образец: немцы – на основах расовой дисциплины, англичане – на базе
коммерческого расчета, американцы – на своих деловых методах, римляне строили
на основе права, мы строим на основе православия» (И.Л. Солоневич). Неоспоримые
исторические факты говорят о высокой степени духовности русского характера. Все
его нравственные достоинства были проявлением глубинной бытийной ориентации
народа-созидателя: «Наша история есть история того, как дух покоряет
материю, а история США есть история того, как материя покоряет дух» (И.Л.
Солоневич).
Оригинал этого материала
опубликован на ленте АПН.