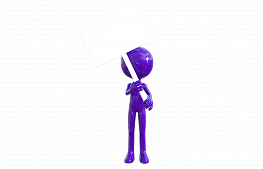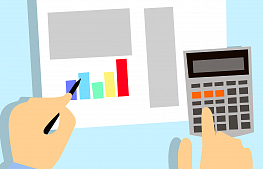






С царём в голове
Про политкорректность многое было
сказано. И про то, что это современная форма цензуры. И про то, что это
сведение свободы «исключительно к словам». Говорили, что политкорректность даёт
возможность говорить тем, кто немы. Возражали, что она, напротив, ограничивает
свободу слова. По мне, так политкорректность – это межеумие, то есть сведение
истины к тому, что располагается «где-то посередине», между мнениями. Однако
то, что есть между мнениями, находится от них в двойной зависимости. Принципу
«двух мнений быть не может» политкорректность противопоставляет принципиальную
двойственность мнения.
Политкорректность против
философии
Обращаясь к словам-мнениям,
политкорректность ставит под вопрос слова-категории, а вместе с ним любую
категоричность. Категория – это принцип обобщения, действующий как
непреложность.
Категория открывает перспективу
верного слова сразу в двух смыслах. Верное слово, во-первых, объемлет референт,
который обозначает. Оно служит истиной. Во-вторых, верное слово, категория,
соотносится с долгом, то есть фиксирует обязательство. На языке
политкорректности невозможно зафиксировать обязательство. Истина понимается в
нём как соседство противоположных суждений, которое порождается шизофренизацией
мышления, упускаемой из виду только в силу привычного словоупотребления.
Скажем, построение фразы типа «Я запрещаю запрещать» в политкорректном языке
обозначает совершенно обычный ход рассуждений.
В каком-то смысле политкорректность
означает возвращение к доаристотелевской системе мышления, в которой истина
могла становиться способом существования (этосом), но не методом исследования.
Напрашивается сравнение сторонников политкорректности с софистами, признавшими,
что тезис «Бытие есть» равновелик тезису «Не бытие есть», однако софисты были
настоящими философами, как с точки зрения готовности следовать истине, так и в
смысле готовности её исследовать. Теоретики и практики политкорректности на дух
не переносят философию.
Политкорректность как
«деконструкция» для нищих
Политкорректное мышление претендует
иметь дело не с единообразной истиной, а с истинами, которых всегда «больше,
чем одна». При этом если категории соотносят обладание принципиально
единообразной истиной с возможностью быть субъектом, то политкорректность
делает условием субъективности умножение истин и сущностей. С точки зрения
политкорректности истина – эффект монополизма в любом из его проявлений.
Однако демонополизация всегда
оборачивается приходом других монополий. В данном случае это монополия речевого
этикета, переводящего этические проблемы в технические, а проблемы истины – в
проблемы словоупотребления.
Политкорректность – это
деконструкция для «нищих» (прежде всего духом), всё-таки превращённая вопреки
усилиям Деррида, из «опыта» в метод. Это метод сводится к двух пунктам: 1)
перестановке местами элементов противопоставления, 2) замена отношений между
этими элементами с «противоположности» на «различие». То есть если речь о
слове, то в политкорректном варианте, оно должно рассматриваться как проявление
молчания. А если речь о цензуре, то с точки зрения политкорректности – это
альтернативная свобода слова.
Политкорректность как язык
полицейского государства
Итак, в своих собственных терминах
политкорректность – является альтернативной свободой слова, равносильной
проявлению молчания. Или цензура, превращённая в проявление свободы слова. Или
умалчивание, которое уравнено в правах с говорением. Политкорректный язык
оказывается при этом языком шпионажа, вышедшего за рамки отношений резидентур.
Это язык спецслужб, перенятый субкультурами, царство которых означает
одновременно и воцарение новой герметичности – вместе с шифрами, паролями и
заповедными словами.
Однако настоящий размах новой
герметичности придают медиа. Располагая истину «посередине», они сводят её к
стабилизации восприятия, к управляемой десубъективации. Говорящий
приравнивается к диктатору, устанавливающему порядок, как это делается в
философии Делёзом. Ответом служит, одной стороны, превращение говорения в инсценировку
(«говорящие головы»), а с другой – систематическое испускание шумов («сенсации»
и проч.). Одновременно располагать истину «где-то посередине» – значит находить
её в самом центре резона, а значит и полицейского государства. Обыватель и есть
в первую очередь резонёр, а следовательно – государственник. В таком качестве –
он оплот политкорректности. Если задаться целью давать определения, получится,
что политкорректность – это когда полицейское государство берёт на себя
прежнюю миссию «царя в голове».
Возражением политкорректности в
этом смысле могут быть не какие-то аргументы, а только конфликт кодировок,
производящий взлом медиасетей: одна система шифрования сталкивается с другой
наподобие той ситуации, которая вызывала скандал вокруг WikiLeaks.
Политкорректность означает
невероятный скачок в развитии культуры оскорбления: назвать дурака «дураком»
куда безобиднее, чем назвать дурака альтернативно одарённым. Эвфемизм всегда
болезненней, чем прямолинейность. Оскорбления разрываются как осколочные гранаты,
вызывая не ретакции, а долговременные последствия.
Авторитеты мертвы, да
здравствуют авторитеты!
Кажется, что политкорректность
состоит в избегании крайностей (сродни аристотелевскому), но подступившись
ближе, видишь, что политкорректность – в оппозиции к мышлению (со всеми его
«просвещенческими» атрибутами вроде самостоятельности).
Политкорректность предполагает
превращение отсылки к авторитету из аргумента (ложного) в имманентное свойство
самого рассуждения. Таковы политкорректные формы знания типа современной
гуманитаристики, напоминающие по тону и способу структурирования схоластику.
Политкорректное мышление в этой перспективе ничто иное, как разросшийся до
размеров статей и фолиантов аргумента ad hominem – так, например, вся
«гендерная теория» сводится к нескольким не лучшим образом понятым тезисам
Мишеля Фуко. «Авторитеты мертвы, да здравствуют авторитеты!».
Именно поэтому политкорректность
основана на принципе подражательности (миметизма). Она предполагает
обязательный культ цитат и ссылок.
Увидеть в мысли предмет или предлог
деятельности – значит превратить субъективность в искусство. Однако сегодня
искусство субъекта пребывает в упадке. Медиа выступают конструктором готовой
субъективности, не требующей ничего, кроме клавиатуры или пульта. Свобода
выбора как медиасёрфинг, как переключение каналов или переход с одного носителя
на другой.
Призрак «тёти Моти»
Программирующий человек и есть,
вопреки дурацким надеждам гуманистов, человек программируемый.
Отсюда эффект «Тёти Моти» –
деантропологизированного существа, которое выступает придатком или
отпочковавшимся отростком телевизора, а то и вовсе призраком мерцающего экрана.
«Тётя Мотя» – сгусток рутины, сконцентрированной в медийных возможностях,
когда перепроизводство каналов связи девальвировало ценность сообщения, если
только это сообщение само не оформляется в очередной канал связи. Для
«Тёти Моти» всё банально – она ласково машет чепцом в сторону своей грёзы о
Капитане Очевидность. Что бы не попадалось ей на глаза, она пытается придать этому
чему-то знакомые черты – хоть бы и Валентины Леонтьевой. В этом, однако,
нет никакой особой проблемы – «Тётя Мотя», как и любой порядочный призрак,
исчезнет как только наступит утро.
Проблема в другом: «тётей Мотей»
становится сегодня образцовый интеллигент. Интеллигент сегодня – делегат
научно-образовательной системы, превратившийся из места поиска истины в
инструмент малобюджетной социализации для тех, кто не может ни «вписаться» в
рынок, ни изменить его «конъюнктуру» в свою пользу. И в этом своём качестве
интеллигент, хватающийся за тонущие айсберги социализационной инфраструктуры,
злейший враг мысли. Мысль есть то, чего он по-настоящему боится и ненавидит.
Гитлер-хипстер
Примечательно, что сегодня, с одной
стороны, ведётся речь о русской политкорректности, а с другой – публикуются
фэйк интервью Гитлера (как я понимаю, непосредственно из преисподней).
Очевидно, что обратная сторона политкорректности – придание безобидных качеств
чему-то совершенно небезобидному. Пример: Гитлер-хипстер, очевидным образом
выступающий наследником чаплинского Гитлера-цирюльника.
При этом политкорректный стиль –
удачный способ протащить что-либо контрабандой. Точнее сказать, при помощи
политкорректности контрабандой можно протащить всё, что угодно – и всё будет
казаться милым и удобным. Это удобство – недооценённая опасность
политкорректности. Которая неизвестно чем обернётся впоследствии.
Атака бумажных тигров
Когда бы знали наши родители, как
изменится фигура месткома при неизменности месткомовского стиля.
Политкорректное «сетевое общество» каждого делает пропагандистом, не делая при
этом гражданином. Этот эффект проявляется в постоянном «мыкании»: «мы бы», «нам
бы», «куда нам» и проч. Однако речь идёт о таком «мы», которое позволяет
оставаться анонимным и не создаёт никакой новой субъектности. Это дополняется
сегодня принципиальной деградацией «мы»: не будучи воплощением деятельности
коллективного воображения и репрезентации оно соотносится с готовыми формами
массовой культуры («Хочешь стать Леди Гага – спроси меня как», «Стань Толстым
за 15 дней без усилий и напряжений» и т.д.).
Деградация структур мы-идентичности
сказывается на феномене политического активиста. Политический активист – это
потенциальный делегат всего и вся, он готов действовать от любого имени, по
любому поручению. Но вот незадача: ни «имени», ни поручения ещё не существует. Коллективное
«мы» заменяет сегодня политкорректность с её отсылкой к универальному
сообществу угнетённых, существующему только на словах. В безобидной форме
бумажного тигра. Но даже в своём бумажном качестве этот тигр никуда не
прыгнет…
Поколение политкорректности
Поколение политкорректности –
девяностники. С самого начала девяностники делали способом самовыражения
перманентный кризис идентичности, потрясая как юродивый культёй собственными
непрекаянностью, нековременностью и межеумием. Сегодня, пожалуй, маска приросла
к лицу и их и в самом деле начинают считать поколением неудачников. Лузерами
эпохи.
Девяностники любят представлять
себя поколением, перемолотом жерновами эпох («Родились ещё при Брежневе»),
досрочное повзрослевшем и даже успевшем состариться (иногда в силу вертикальных
статусных взлётов). Однако сегодня они воспринимаются скорее не как
перемолотое, сколько как застрявшее или залипшее поколение. Ещё точнее слово
«зависшие». Девяностники зависли, как зависает компьютер, не справившийся с
собственными операциональными возможностями. И этот предел возможности
оборачивается стремлением закрыться, стать герметичными. Ни одно поколение не
относится с такой серьёзностью к всяческим ложам, цехам и клубам.
Девяностник мыслит аналогиями, что
иногда рождает эффект магическое сопричастности, но чаще оборачивается
постмодернистским однообразием и безвкусицей. Он вечная жертва манипуляций,
поскольку сам действует исключительно манипулятивно: «Подай – принеси»,
«Расставь – убери». Из них получаются выдающиеся пиарщики, но весь этот пиар
сжирает как Робин-Бобин культуру, оставляя от неё нечто совсем уж
неудобоваримое – склеп и музей.
Вся фантазия девяностников сводится
к мешанине контекстов. Это и есть ставший их эмблемой «креатив». Поставить
героев Тарантино на месте «Рабочего и колхозницы», привести за ручку Рабочего и
Колхозницу и посмотреть, что из них получится в антураже картин Тарантино. Или
отправить героев «Нашей Раши» в кожзамово-ситцевый рай Семёна Семёновича
Горбункова. Всё это типичные девяностнические ходы. Никакого нового качества
при этом не возникает, да оно и не требуется. Все жизненные силы поколения
девяностников потрачены на то, чтобы унифицировать современность. Поместить её
где-то в промежутке между модой, то есть перелицовкой «хорошо забытого
старого», и техникой, «техника решает всё». Ботокс (символ долгой
молодости), силикон (символ гуттаперчивости тела) и айфон (символ того, что ты
«всегда на связи») превратились даже не в технические приспособления, а в
волшебные атрибуты поколения.
Прикольно отарантинить Мухину?
Прикольно. А снять Светлакова в роли Горбункова? Прикольно. Вот гремит это
девяностническое «Прикольно!» как раскатистое «Ура!» в рядах усатой кавалерии.
Только вот кавалерия девяностников скачет на пластмассовых лошадках
брежневизма. Куда-то в сторону страны своего детства. Однако этой страны давно
уже нет как нет. Сами же девяностники её продали-прожили, разобрали на
конструктор «Лего», бигмак и листовки у Белого дома. Вместо неё долгий ряд
высотных нефтяных вышек, качающих соки из будущих поколений.
ТВ: политкорректность как власть
После перестройки можно безошибочно
видеть, в чём приметы политического кризиса. Первая и главная среди них –
«медиа» противопоставляются «власти». Второй приметой выступает то, что
политкорректная речь воспринимается как откровение. Третья примета – «медиа», в
особенности, телевидение монополизируют право как на политкорректность, так и
на исключения из политкорректных правил.
В недавнем выступлении журналиста
Леонида Парфёнова на вручении премии Листьева можно усмотреть все три приметы.
В нём говорилось не про Кашина, не про «огосударствление телевидения», не про
цензуру на телеканалах и не про официозные новости, ставшие «старостями». Это речь
про то, что «медиа» категорически не хотят разделить ответственность на
нулевые, а главное, не хотят признать, что и они тоже — власть. Причём власть
со всей неофеодальной атрибутикой, которая есть в госкорпорациях и вообще
повсюду.
Что это за атрибуты? Они хорошо
известны: несменямость кадров, местничество, групповщина. Телевидение –
образцовая госкорпорация. Первая синекура среди других синекур. За последние 10
лет не произошло никаких сколько-нибудь существенных изменений в пуле
телеавторитетов — посмотрите, кто сидит на вручении листьевской премии: всё тот
же Познер, всё та же Сорокина, всё тот же Дибров. Я не говорю уже о Сагалаеве
или Лысенко. Однако именно ТВ у нас «в авангарде». При «всех», при любом
раскладе. ТВ заменило КПСС в роли «руководящей и направляющей силы
общества». И не нуждается для этого в особой статье Конституции.
При Горбачёве ТВ светило нам в лицо
«Прожектором перестройки», при Ельцине призывало к расстрелу парламента, при
Путине велело гордиться появившимися миллиардерами, при Медведеве решило
поиграть в перестройку — уже без народа, массовка вышла из моды. Это ТВ
превращало в реальность любую наперёд заданную конфигурацию власти, это
оправдывало любые проявления несправедливости и неравенства. Телеящик
превращает людей в зрителей собственной жизни.
Оно отводит им роль статистов,
внушает мысль о том, что «ничего нельзя сделать». Устами Парфёнова ТВ хочет
заявить, что оно не причём, что всё путинское десятилетие оно страдало от
цензуры. Однако цензурой является само телевидение. И не столько даже цензурой
по отношению к словам и мыслям, сколько цензурой по отношению к самой жизни.
Сегодня многие хотят уехать из страны. Меня самого всё чаще посещают такие
мысли. Некоторые доброхоты советуют поступить просто – выключить ящик, разбить
его, выбросить с балкона. Это глупость. Не нужно уезжать из страны. Не нужно
выбрасывать телевизор. Нужно, чтобы у нас было другое телевидение, а старое
– сыграло в ящик.
Политкорректность вместо блага
Ошибаются те, кто полагают будто
полицейское государство выражается через репрессии и умножение урядников.
Полицейское государство выражается прежде всего в подмене этики «благочестием».
Благочестие – это навык
цивилизованного поведения, превращение иерархии статусов в систему
поведенческих навыков подле кого сесть в глубоком книксене, а от кого отделать
кивком головы, как поздороваться с Иваном Ивановичем и куда послать Ивана
Никаноровича, перед кем рептильно прогнуться и над кем воспарить быстром
соколом.
Политкорректность – это превращение
благочестия из языка жестов в полноценную систему высказываний. В этом смысле
политкорректность – новый этап становления полицейского государства, который
воплотился уже не в кандалах и околотках, но в словах и образах. Причём речь
идёт не о словах, которые составляют юридические кодексы, а о слове, которое
стало кодексом и заменило собой любую форму пророчества и завета.
Медиа соединяют сегодня то, что
должно быть, с тем, что существует, заменяя прежнюю метафизику социальных
идеалов, стеклом дисплея или экраном, которые даны в непосредственных
ощущениях, но от этого делают ещё более недоступным то, что отображают.
Политокрректное благо, оказывается сведено к экранному образу – уже не
дидактическому как, воспроизводящее полицейский регламент, наглядное пособие из
школьного кабинета, а образу из рекламы, телесериала или репортажа.
Экран – отслужившая своё
постмодернистская метафора общества времён седого Бодрийяра. Сегодня
политкорректность как система медиамышления без всяких метафор превращает
общество в отсвет экранного мерцания.
Оригинал этого материала
опубликован в Русском журнале.