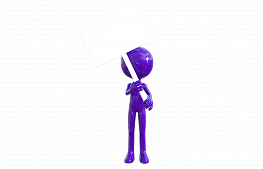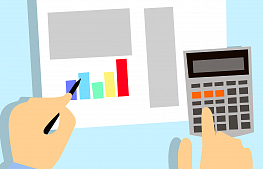






Слободизация страны Гардарики
Города в европейском смысле худо укоренялись на российской
территории в любой период ее никогда не завершаемого освоения, потому и с городской
формой культуры у нас постоянные трудности, и само ее наличие было и остается
под вопросом. Под городской культурой Европой уже лет пятьсот понимается культура
вообще — особая среда порождения, распространения и обмена ценностей между относительно
свободными гражданами, каковых греки именовали "политеи" или причастные
к политике
…Человек — игла,
затерянная в стогу,
на лугу
(если есть стог,
если есть луг).
Человек — листок
на семи ветрах.
Человек — плуг,
а земля — прах.
…Ты и выжжена и заснежена,
не любовница ты мне и не жена.
О, родимая русская нелюдь,
в своей нежити не изнежена.
(из стихов 1982 г.)
Как известно, иллюзорная очевидность сильнее реалий бытия, и когда в благостные
времена застоя, в служебную бытность мою при архитектурно-градостроительной
части я имел дерзость утверждать, что города в России не было и нет, обиженный
ответ был, как у ксендзов из "Золотого теленка": как это нет, когда
вот он, есть!
На эту же очевидность наталкиваются иноземные специалисты, которым и в самом
деле мнится, что в России они оказываются хотя в несколько странном, но все
же именно в городе, и тогда они начинают давать рекомендации, не понимая природы
легкого подхихикивания со стороны вежливо внемлющих им туземцев.
В самом деле, некоторым образом застроенная территория, административно отграниченная
от негорода, есть. Дорожные знаки, фиксирующие въезд в город (иной раз даже
и план движения транспорта), тоже есть. Городские власти обозначают свое наличие
соответствующими вывесками при входе в присутственные места. Есть некоторое
множество жилых и прочих зданий, так или иначе замощенных улиц и пр. и пр. Аэросъемки
проявляют, разумеется, некоторые специфические особенности российского города
— в первую очередь рыхлость тканей и обилие пустырей и полупустырей, огороженных
и неогороженных, однако для постороннего взгляда это не более чем технический
недостаток или даже ресурс развития в будущем. На масштабном же плане и в особенности
на карте и эта специфика исчезает почти полностью, что и позволяло в течение
десятков лет успешно имитировать наличие градостроительной политики на международных
собраниях. Тем легче это удавалось, что и терминология использовалась почти
в точности та же, что и в остальном мире, тогда как тонкости, вроде того, что
именно градостроительного проектирования в мире никогда не было, это можно было
счесть не вполне удачным переводом английского urban planning и таким образом
перенести предмет несогласия в область сравнительного языкознания.
Смею утверждать, что при успешной имитации формы города собственно городское
начало в России словно бы органическим образом отсутствовало прежде и отсутствует
напрочь теперь. Это шумное заявление можно было бы счесть не столь существенным
— мало ли чего не было и нет в России либо как бы было, но в действительности
и не было, вроде Сталинской Конституции! Однако есть основания думать, что без
постижения уникальной природы российского "нонурбанизма" разобраться
в особенностях местной культуры и тем паче в механике образа бытия трудно или
вообще невозможно.
Разумеется, в указанном выше элементарном смысле города не было и нет и на Востоке,
не знавшем признаков гражданства-горожанства, порожденного миром греко-римских
структур. Важно, однако, то, что не быть, как и быть, можно по-разному, и в
России города не было совершенно по-иному, чем в Древнем Египте, средневековой
Индии или Китае. Там никому и в голову не приходило равняться по европейской
схеме Civilis-существования культуры, вообще обособлять культуру от среды, воплощающей
в себе высшую ценность Традиции. Мы, в России, никогда не были в состоянии позволить
себе такое безразличие, и даже самая страстная проповедь "самости"
непременно отражает внутреннее признание ее трудноосуществимости, ежели вообще
возможности. Но не можем мы отделаться и от всеохватывающей уверенности, что
все, что бы здесь, на этих суглинках, ни произрастало, непременно не похоже
на другое, и чем больше жажда воспроизвести чужое, тем страннее оказывается
конечный эффект. С идеей города и формой города происходило и происходит то
же.
По естественной склонности к номинализму в России обычна исходная убежденность
в ее принадлежности к кругу западной цивилизованности по крайней мере с Петра
Великого. При такой точке зрения невозможность распознать "нормальный город"
в некоторых застроенных территориях, отграниченных от окрестностей, в первую
очередь вызывает чувство раздраженности. Мы словно сердимся на отечественную
действительность за ее "неправильность" и ищем — начиная с В.О.Ключевского —
объяснение этой неправильности и способы ее устранения так, чтобы, грамотно
их применив, по крайней мере надеяться на то, чтобы законным образом числиться
в европейском клубе по принадлежности. Несколько сложнее принять другую установку:
мы имеем дело с особой действительностью, в которой все международные понятия,
вроде урбанизации, обманчивы, подменяют и маскируют реальность. Если войти в
эту феноменологическую позицию и стараться удержать в ней равновесие, то придется
начать отстраивать модель средоустройства не столько обычным образом — от целого
к частности, сколько путем восстановления или восхождения к целому от мельчайшего
проявления этого целого, не данного нам в понятийных моделях.
Вопрос о местонахождении такой "молекулы" совместного бытия в пространстве
России далек от простоты, но во всяком случае целесообразно в начале пути отказаться
от двух крайностей. Одна — отталкивание от убежденности в том, что только
пространство тотальной государственности как неделимая среда обладает постижимой
сущностью. Естественно при этом стремление отыскивать так называемые корни в
наиболее ранних исторических следах первичного землеосвоения. Другая —
убежденность в том, что только микросреда бытования отдельного обособленного
человека (даже не семьи) может быть изучена и понята с какой-то мерой полноты
и определенности. Здесь естественно бихевиористское безразличие к историческому
времени, иначе чем взятому в масштабе родовой и биографической памяти индивида.
Представляется, что разумнее оттолкнуться от некоторой конечной целостности
общежития в пространстве в данный момент, чтобы в дальнейшем осуществить развертывание
во времени и пространстве к их пределам, охватываемым более-менее оснащенным
сознанием.
Летом 1993 г. мне довелось наконец добраться до "монады" российского
"как бы урбанистического" бытия, каковой монадой мог быть только наименьший
город России. Как и должно быть во всяком числовом ряду, должен быть нумер,
завершающий весь ряд, — город Лихвин. До большевистских перекомпоновок Лихвин
натуральным образом входил с уездом в состав Калужской губернии, после —
с обычной в таких делах легкостью — он был сначала переведен в состав Тульской
области, а затем лишен уездного статуса, но по причине гибели здесь бедного
подростка от руки супостата в 1941 г. был переименован в Чекалин, затем и сохранил
градский статус.
Особость Лихвина в том нечастом обстоятельстве, что он и в 1900 г. был наименьшим
среди российских городов, что городу нимало не тесен планировочный корсет 1782
г. Так он и бытует на плане, высочайше конфирмованном Государыней Екатериной
Второй, когда путаницу прежних улочек заменили обычной сеткой кварталов, с V
в. до н. э. именуемой Гипподамовой. Впрочем, государыня была, как обычно, благоразумна
и не пыталась втягивать в город старые слободы — Пушкарскую и Стрелецкую. И
они тоже на своих местах. Не пытались включить в состав плана и крепостцу на
высоком обрыве — крепостцы нет, но обрыв уцелел.
В Лихвине 1240 человек — в 1900 г. было несколько больше: 1700 душ. Как и во
всей России, умирает здесь существенно больше народа, чем рождается, выезжает
в поисках лучшей доли больше, чем приезжает. Особость места в том, что большинство
жителей суть советские рантье-пенсионеры, упрямые, подозрительные и самодостаточные.
Живут они пенсией, но также и продажей молока и молочных продуктов, овощей и
фруктов обитателям близкого "города" Суворова (т.е. квазипромышленной
слободы), пытающимся трудиться на заводах, получающим за попытки относительно
высокое жалованье и не выращивающим ничего.
Еще один значимый источник пристойного существования лихвинцев — переход немалой
части домов в режим летне-дачного использования наследниками и родичами. Чужим
домов почти еще не продавали, так что некая община сохраняет самотождественность.
Из так называемого общественного производства в Лихвине имели место два очага
индустриализации: молокозавод, на который все еще приходят машины, и нечто под
названием "комбинат", где строчили простыни, пододеяльники и наволочки,
пока доставка сырья была плановой. Поскольку на "комбинате" трудятся
дамы предпенсионного возраста, а исчисление пенсии гуманно разрешено производить
из любых пяти лет стажа, то наличие или отсутствие сырья и работы мало кого
беспокоит. Привезут что-то — есть работа, не привезут — тоже хорошо: "клубные"
отношения вполне самодостаточны. Директор "комбината" — довольно молодая
дама, избранная вполне демократической процедурою. Себе оклад она положила вполне
сносный, от работы "комбината" существенно не зависящий, ибо, как
принято в России, это не самостоятельное предприятие, а "филиал".
Была попытка ворваться в технический прогресс, наладив производство пуховых
подушек и одеял, однако с великой проблемой разделения пуха и пера местная рабочая
сила не совладала и при помощи заезжих технологов, так что прогресс пришлось
временно отменить.
Как в гоголевском Миргороде, по Лихвину бродят овцы, козы, куры, гуси, собаки
и кошки. Впрочем, какой-то особенной лужи нет, так как ее место занимает пруд,
отрытый в начальной стадии Перестройки, благодаря энергии мэра, а теперь несколько
заплывший илом. Лихвинское стадо насчитывает более 600 голов, что вполне сопоставимо
с колхозным стадом, но, в отличие от колхозной живодерни, здесь животные хотя
и некой усредненно-советской породы, но здоровые и миловидные. Мэр Лихвина,
человек вполне замечательный, сумел отнять почти 30 гектаров удаленной и потому
заброшенной пашни у ближнего упадочного колхоза, так что с огородными плантациями
у горожан все обстоит недурно.
Вопреки традициям советской урбан-географии доказуемо, что поселение вполне
может существовать и без так называемого градоформирующего фактора, под которым
полагалось понимать индустрию. Есть средняя школа, а в ней — компьютерный класс
иждивением какого-то спонсора: это уже сорок с лишком рабочих мест. Есть поликлиника
(правда, профилакторий пришлось пока притворить ввиду обрушения профсоюзного
царства) — еще три десятка мест. Работают библиотека и отделение Сбербанка.
Есть хлебозавод — ни разу не ремонтированное здание постройки 1907 г.: совсем
было хотели закрыть, новое построили, хотя оборудование еще не установлено,
но теперь решили, что и в старом можно работать — еще два десятка мест.
Есть три продовольственных магазина, один — канцтоваров, один — "Одежда"
(всегда на замке): еще мест пятнадцать-двадцать. К тому же и частный магазинчик
приютился в щели, обнаружив вполне солидный спрос на заморские сладости, баночное
пиво и прочие радости жизни. Что-то перевозится грузовиками, а те надо где-то
чинить и заправлять (из того, что на станции автозаправки следов жизни не обнаружено,
не следует, что рабочие места не заняты). Есть почта. Есть осколочные элементы
районной администрации в виде разных инспекций. Есть водопроводная станция —
водоразборные колонки на улицах действуют исправно. Есть энергетическое хозяйство.
Есть десяток мест в городской администрации.
Поблизости функционирует леспромхоз, в основе своей паразитирующий на сдаче
участков на поток и разграбление иноземным (Молдавия) заготовителям, что, разумеется,
никак не убавило числа рабочих мест. Рейсовый автобус до Суворова и обратно
минует по дороге огромное санаторное хозяйство профсоюзов (целых шесть пятиэтажных
корпусов), все еще заполняемое на сто процентов — там довольно рабочих
мест.
В целом набирается около 300 рабочих мест, так что при населении в 1240 душ,
из которых 750 — пенсионеры и около 250 — дети (частью свои, частью подброшенные
экс-лихвинцами, убывшими в Москву и иные центры советской цивилизации), Лихвин
нуждается в импорте рабочей силы. Из года в год имеется около тридцати вакансий,
заполнить которые сложно — из-за малых окладов иногородних не сманить, а местные,
для которых казенное рабочее место есть приработок и душевный комфорт, имеют
возможность выбирать и привередничать — о безработице не может быть и речи.
Обычнейшая история — частично обеспечивая себя сам, Лихвин паразитирует на остаточной
советской экономике не роскошно, но по отечественной мерке весьма приличным
образом — во всяком случае, в городке все еще на ходу около 300 частных
легковых экипажей.
Обычнейшая история и в том отношении, что вот уже почти восемьдесят лет вся
эта полугородская инфраструктура опять-таки паразитирует на материальном субстрате,
созданном где-то между 1880 и 1916 гг. В дозастойные советские времена здесь
были возведены лишь гипсовый монумент с протянутой рукой, затерявшийся в листве,
и еще знаки земного бытия бедного Саши Чекалина — их целых четыре, не считая
имени городка: доска на домике, где жил; доска со звездой — на школе, где учился;
плита под деревом, на котором расстался с жизнью; обелиск над местом, где похоронен.
В застойную эпоху Лихвин обогатился, как уже было сказано, зданием Дома культуры
на околице, типовой кирпичной школой, зданием узла связи, одним магазином и
двумя жилыми домами — двухэтажными, но зато собранными из бетонных панелей.
Все остальное унаследовано и распадается неспешно. Впрочем, есть и признаки
возрождения: так, завершается ремонт местной церкви, множество частных деревянных
домов известным советским манером обкладывают снаружи кирпичом — не без художества;
мэр с помощью сыновей-подростков героически восстанавливает прекрасный сруб
старинной школы, откупленный у города еще в бытность мэра учителем по остаточной
стоимости в 2000 рублей. И еще все тот же мэр сумел выклянчить у района деньги
на то, чтобы привести в порядок все шесть улиц города, но тут ударила инфляция
— щебень точно привезли и свалили кучами, затем началась торговля с дорожниками,
и к моменту моего отъезда она не завершилась.
Еще в Лихвине возвышаются живописные руины тюрьмы, построенной при Екатерине,
— в руинах обжились четыре семьи, приспособив их под сносное, т.е. почти нормальное,
существование, тогда как единственная в городке столовая прекратила основную
свою деятельность по причине сугубой убыточности, сохранив, однако, нечто вроде
кулинарии, так что ее зал не так уж редко открыт для российской формы "бара":
принесут, посидят за столом и пойдут себе дальше. Иных же мест общения нет.
За исключением типового здания районного Дома культуры, где в наше время все
еще показывают кино, но также и осуществляют регистрацию брачующихся пар. И,
по-видимому, места развлечений — уже частные — появятся не скоро: все же массы
населения недостаточно, а в силу географической локализации на проезжих рассчитывать
не приходится. И так, в течение двух-трех недель разлива верховой Оки, городок
отрезан от дорожной сети (разве что по полузаброшенной одноколейке пропустят
поезд из Козельска), поскольку в 60-е годы по соображениям экономии мост построили
столь низким, что полая вода перекрывает его полностью.
Как ни парадоксально на первый взгляд, но сегодняшний деидеологизированный Лихвин
(впрочем, оформленная оппозиция рьяному труженику мэру есть, и вполне возможно,
что ненавистного "демократа" она на ближайших выборах и сместит) в
значительно большей степени похож на европейский город, чем иные крупные поселения.
Похож тем, что существует для себя и по своим правилам. Не похож же тем, что
он, с одной стороны, бытует явно успешнее, чем городки в зонах острой экономической
депрессии, если иметь в виду психологию душевного равновесия, а с другой — как-то
пронзительно почти лишен признаков повседневной социальной жизни.
Как ни парадоксально это звучит, но нынешний Лихвин в наибольшей, пожалуй, степени
за всю свою многовековую историю приближен к городскому существованию, так как
практически не ощущает на себе начальственного гнева и живет "сам по себе".
Нелишним будет вспомнить, что, отвечая на анкетный лист Академии наук, разосланный
по прямому указанию Екатерины Второй, бургомистры были на редкость единодушны
в ответе на вопрос 21: "в чем упражняются обыватели?" (немецкий оригинал
академического текста явственно проступает сквозь дословный перевод). Ответ
был краток и одинаков: "обыватели упражняются черной огородной работою",
тогда как ни торгов, ни прочих каких занятий не отмечено почти нигде.
Излюбленным поводом самоудовлетворения отечественных историков издавна служило
упоминание того, что в варяжских странах Русь во время оно именовалась Гардарики.
По причине застарелой нелюбви к иноземным наречиям отечественные историки без
затей переводили это звучное слово как "страна городов", и, хотя усилиями
А.Гуревича смысл слова "гард" обрел исходное свое содержание, на мифопоэтику
россики в стиле Б.Рыбакова и его бесчисленных аспирантов это не повлияло ничуть.
Гард или, если уж быть точным, гърд (g’rd) был и есть прямой и очевидный эквивалент
города-ограды, огороженного двора свободного крестьянского рода — не более того,
но и не менее того. Однако же привязанность к отчаянной модернизации, в силу
которой слово город в переводном с европейского смысле urbs, или town, или stadt
оказалось заброшено в глубь полулегендарной начальной истории России, не может
ничего потерять в случае столкновения с историко-филологическим розыском: очень
хочется, чтобы города были, чтобы их было много — значит, они были. В связи
с этим обычнейшим приемом археологов было и остается манипулирование попеременно
двумя словами: город и городище — их как горячую картофелину перебрасывают с
руки на руку до тех пор, пока утомленный читатель готов будет смириться с чем
угодно, будь то уравнивание огороженной территории с застроенной территорией
или утверждение типа: "Если феодальные усадьбы представляли собой плотно
застроенные и обжитые укрепленные пункты, то городища — центры волостей, по-видимому,
не использовались постоянно в качестве поселений. Это были пункты сбора дани,
здесь вершился суд, объявлялись княжеские распоряжения и т. п"[1] .
Города в европейском смысле худо укоренялись на российской территории в любой
период ее никогда не завершаемого освоения, потому и с городской формой культуры
у нас постоянные трудности, и само ее наличие было и остается под вопросом.
Под городской культурой Европой уже лет пятьсот понимается (с обязательными
реверансами в адрес экзотических регионов) культура вообще — особая среда
порождения, распространения и обмена ценностей между относительно свободными
гражданами, каковых греки именовали "политеи" или причастные к политике.
Разумеется, не возбраняется заниматься сюжетом нонурбанизма на сугубо литературном
материале, однако все же целесообразнее привлечь к этому сюжету опыт личных
наблюдений, происшедших не только вследствие праздной любознательности, но также
и в силу профессиональной вовлеченности в трудности выживания поселений.
Лихвин, возведенный на крутом западном берегу Оки, отстоит лишь на 25 верст
от столицы древнего Козельского княжества и известной Оптиной Пустыни, однако
прямой дороги через пологий водораздел, заросший лесом, не было и нет. Оставалось
идти пешком: сначала по грунтовой дороге лесничества, затем по шпалам одноколейки,
затем по неожиданно хорошему шоссе, в стороне от которого виднелись копры заброшенных
шахт, увенчанные изрядно поросшими березками. Лес раздвинут, и на поляне высится
этакий Небесный Иерусалим в сборных панелях — поселок городского типа Сосенский.
И по качеству дорожного полотна, и по мощности пожарного депо, и, наконец, по
"художественно исполненным" указателям можно сделать безошибочный
вывод о том, что в лесу затаилось дитя ВПК, ныне переживающее не лучшие свои
дни, хотя пяток шахт функционируют.
Имя поселкам городского типа легион, проживают в них до четверти населения,
причисляемого статистикой к городскому. Однако эти неопознанные нелетающие объекты
так и остаются загадочным и затерянным миром. Форма города у них есть, внешние
атрибуты городского бытия — тоже. Но это ближе всего к company-towns в их наиболее
старомодном, девятнадцатого века, издании. Сосенский, как и тысячи его двойников,
возник как часть советского индустриального "бизнес-плана", был вкалькулирован
в состав "основного производства" и по сей день остался в практическом
единовластии индустриальных баронов. Был момент, когда вместе с утратой неисчерпаемых
кредитов несколько ослабла самоуверенность баронов, и группки "демократов"
в ПГТ попытались захватить власть — советскую, разумеется. Но наряду с неопытностью
новой власти ее окончательно подкосили долгожданные реформы, которым бароны
сопротивлялись по неразумию. Теперь в Сосенском уже воцарилось А/О закрытого
типа, так что статус-кво можно в целом считать восстановленным. В структурном
смысле ПГТ — поселки городского типа — мало отличаются от все тех же исконных
слобод: ямских, стрелецких или пушкарских, хотя прямая сословная повинность
и замещена в новой слободе тотальной зависимостью от монопольного работодателя —
с большей или с меньшей степенью просвещенности.
Конечно, было бы неразумно вполне приравнивать мир ПГТ к миру военных городков,
нынешних или старых: все же отсутствие полной регламентированности Уставом привносит
в первый толику если и не свободы, то некой внешней расслабленности. И все же
различия менее существенны, чем сходство — во всяком случае, мой опыт знакомства
с миром военных городков убеждает в том, что имитация подчинению Уставу успела
достичь высочайшей степени изощренности. Такие существенные мелочи, как незаделываемые
проемы в ограждении, которыми пользуется всякое разумное человеческое существо,
дабы не вступать в конфликт с местным правом, позволяют убедиться в том, что
лозунг выживания, впервые предъявленный в названии картины Ярошенко "Всюду
жизнь", остается опорой российского нонурбанизма.
Нет смысла сосредоточивать внимание на особом мире ВПК с его "закрытыми"
городами, в особенности теми, что были порождены Министерством среднего машиностроения,
многолетний заместитель главы которого г-н Коротков был в самоощущении современным
Давидом-строителем и поощрял архитектурные "излишества" Навои или
Шевченко (ныне Актау), вплоть до высверливания в материковой скале огромных
лунок для высадки в них деревьев, полив которых обеспечивался опреснителем при
АЭС. Нет смысла потому только, что хотя это и обширный затерянный мир, в состав
которого входило до недавна около пятидесяти поселений (включая заброшенные
города-призраки вроде Желтых Вод, населенных давно только тарантулами), но все
же нас интересуют не исключения, а общий порядок вещей.
На пределе возрастания ряда монопромышленных слобод, начинаемого ПГТ, вроде
Орджоникидзе в Крыму, затерявшегося за горой между Феодосией и Коктебелем, обнаруживаются
слободы уже совершенно гигантских габаритов — Тольятти и Набережные Челны.
Эти химерические, по полмиллиона жителей каждый, порождения советского планирования
все же слишком велики, чтобы целиком укладываться в моносхему. Так, в Набережных
Челнах все же сохраняется различие между "городом", созданным в 50-е
годы "под" строительство ГРЭС и шлюза, и Автозаводским районом, неотрывно
сцепленным с близким КамАЗом. В Тольятти сохранился контраст между "старым
городом" 50-х, т.е. степным Ставрополем, переселенным на новое место в
связи со строительством Куйбышевского гидроузла, и "городом", порожденным
комплексом АВТОВАЗа. Как ни парадоксально, но "сталинские" города,
созданные преимущественно рабским трудом, несли в своей имитационной форме города
большее человеческое начало, чем "города" брежневской, куда более
либеральной поры: нормальных габаритов дома, нормальных пропорций дворы. Искать
за этим идеологических оснований было бы неверно. Все дело в том, что, когда
форма города лишь имитируется, а созидается всего лишь слобода, решение естественным
образом передается тем, кого определяют специалистами по городской форме, —
архитекторам. Архитекторы же, предоставленные самим себе, способны либо по инерции
воспроизводить некие "городские", т.е. европейские, стереотипы, пока
ощущают себя преемниками исторической формы, либо увлечься отчаянным абстракционизмом,
когда связанность с культурой формы разорвалась.
При имитации формы города происходит натуральное высвобождение от последних
следов реальности человеческого существования, и композирование в почти картографическом
масштабе не сдержано почти ничем. Поскольку же размеры тела архитектора от этого
не зависят, а изображать планировку принято на доске, легко понять, что работать
на планшете с габаритами больше чем 2 х 3 метра нельзя технически. Чтобы поместить
суперслободу на таком планшете, остается уменьшать масштаб изображения и рисовать
форму города в масштабе 1:10000. В таком масштабе обычная улица шириной метров
12 — 20 должна быть представлена полоской 1,5 — 2 миллиметра, т.е. быть почти
неразличимой с того расстояния в несколько метров, с которого принято глядеть
на генеральные планы при обсуждении с экспертами или во времена визита большого
начальства. Вполне естественно при этом оказывалось воспроизводить "форму
проспекта", придавая ему ширину 300 метров, и соответствующих габаритов
"форму площади", а затем уже возникало естественное стремление сочинить
присутственные места так, чтобы и их габариты соответствовали пространственной
ситуации. Поскольку же в свою очередь, за исключением партийного дома и "дворца
культуры", зал которого был нужен для конференций, никакое более "общественное"
строительство не финансировалось, в гигантской слободе воцарился пустырь — форма
пустыни или "дикого поля".
Впрочем, и здесь нет качественной новизны. Перепланировка поселений под европейскую
"форму города" при Екатерине Второй и Николае Первом также осуществлялась
по планам, составляемым лишь в отношении к листу бумаги, нередко срочно и заочно.
Так, в славном Тихвине главная площадь обнаружилась с перепадом высот в три
сажени между противоположными ее сторонами: рисовали на плоскости столь спешно,
что ввиду отсутствия данных топографической съемки таковыми было естественнее
всего пренебречь, положившись на милосердие Создателя и утрату монаршего внимания
к результатам подписанных сугубо концептуальных решений. Точно так же при устройстве
главных площадей Полтавы или Петрозаводска изображалась "форма площади",
круг в первом случае, овал во втором, но если петрозаводский овал окаймлен хотя
и заниженными, но как-то соответствующими пространству корпусами присутственных
мест и губернаторского палаццо, то в Полтаве посреди города — своего рода модель
поля, напоминающая о том, что наши предки некогда удалились в леса именно из
степи, уступив "поле" натиску скотоводов.
И тогда причина была проста и сугубо инструментальна: при изображении кварталов
новой "формы города" было ясно, что изображается интервал между проездами,
который в дальнейшем будет заполнен огородами на 3/4, а постройками на 1/4,
но логика рисунка такова, а форма прямоугольника обладает такой магической силой,
что получить "форму площади" при этом можно было одним способом. Под
второстепенную площадь "изымается" прямоугольник квартала, под главную —
двух или четырех кварталов. Все очень просто.
Таким же образом поступали и при проектировании суперслобод, но "кварталу"
Тольятти назначили габарит по сетке 1000 х 1000 м, а в Набережных Челнах ограничились
созданием "островных" групп, прозванных жилыми комплексами. Проездам
даже назначили позже имена, но те не приживались, и почтовый адрес определялся
просто: Комплекс # 23 и т.п. Под играющей рукой зодчего, рисовавшего форму города
по вдохновению, ибо оснований делать иначе не было никаких, возникла структура,
ставшая питательной средой для молодежных гэнгов, отстройка коих осуществилась
сама собой — по "комплексам".
Слобода, довольно успешно имитирующая форму города, — основа иллюзорной вещественности
российского нонурбанизма.
Несколько сложнее на первый взгляд обстоит дело с древними и при этом разраставшимися
поселениями, форма которых отразила в себе наслоения многих времен, что и создает
немало иллюзий.
Конечно же, первенство здесь бесспорно принадлежит Москве, которую уже в конце
XV в. заезжий итальянец Амброджо Контарини весьма удачно определил как terra
di Moscovia или даже il resto di terra, четко отличая от нее il Сastello, т.е.
Кремль. Заметим, что лишь в завещании Ивана III Москва была определена как вотчина
наследника, хотя в действительности отношения собственности сохранялись еще
в запутанности. При самом же строителе Успенского собора стольный град все еще
был рыхлой агломерацией вотчинных владений не только членов обширного великокняжеского
дома, но и служилых князей, и старомосковского боярства, и нового боярства,
прибывшего в Москву вместе с бывшими удельными князьями. При каждом из этих
княжеских или боярских дворов возникали собственные ремесленные слободы, не
говоря уже о полях, лугах и огородах. Позже происходит шаг за шагом выдавливание,
так что монопольная позиция Великого Князя и его двора была закреплена — не
столько, впрочем, за счет какой-то радикальной перепланировки, сколько отъемом
или переемом собственности — иногда с компенсацией, чаще без таковой.
В любом случае и во времена первых Романовых стольный град был необычайно широко
раскинувшейся рыхлой агломерацией слобод, разделенных полями, вспольями и лугами.
Если за несколько столетий Китай-город все же стал своего рода даунтауном, частично
воспроизводя не только форму, но и структуру бытия европейских аналогов, то
уже на Белый Город европеизация смогла посягнуть всерьез только после наполеоновского
пожара. Не лишено интереса проследить, с какой последовательностью terra di
Moscovia продолжала и продолжает воспроизводить собственную структуру, несмотря
на смену династий и режимов. Популярное в прошлом веке суждение о Москве как
большой деревне неверно по существу — она была и остается рыхлой агломерацией
слобод (частью агропромышленных, как Измайлово или Коломенское, и промышленных,
как Гончары, или полупромышленных-пустырных, в целом занимающих до 40% площади
юридического города), а также "сел", частью — жилых или спальных,
к которым уже в наши дни все добавляются новые: сначала Теплый Стан и Битца,
а теперь и Жулебино, и Южное Бутово. Terra di Moscovia продолжает процесс наползания
на Московский край, очевидным образом стремясь поглотить его весь без остатка.
Москвичи были горожанами в такой же, если не в еще меньшей степени, чем обитатели
других поселений России. И все же вопрос о статусе их существования в пространстве
не столь уж прозрачен.
Вроде бы стремясь в полноте руководить поведением каждого податного индивида,
российская система власти категорически не желала смириться с необходимостью
нести расходы по реализации этой четко выраженной воли и уже поэтому, перелагая
бремя расходов на ту или иную ассоциацию индивидов, начиная с деревенской "верви",
задним числом переименованной в "общину", явочным порядком признавала
за индивидом изрядную толику самодеятельности. Естественно при этом, что сохранение
высокой, наивысшей степени неопределенности норм являлось (и является) условием
sine qua non устойчивого в самой неустойчивости своей порядка вещей. У такой
неустойчивости масса достоинств, так как она исключала самую возможность соотносить
последующие деяния с предыдущими по единому основанию и тем самым — критику
даже как возможность. Но у нее была и есть оборотная сторона в том, что, изустно
утверждая единство воли, власть негласно принимала, в форме обычного права,
неопределенность обязанностей всех податных существ вне отправления податей.
Из героических усилий власти предержащей не отпускать вожжей ни на единый миг,
столь блистательно каталогизованных М.Е.Салтыковым-Щедриным, не так уж многое
получалось. Стремясь сохранить от сокращения численность податного населения
и притом тяготея к предельному упрощению расчетных процедур, власть пыталась
блюсти, чтобы всяк занимался исключительно предписанным ему делом. Крестьянам
воспрещалось торговать — однако упорная частота угроз в указах властей в адрес
"торгующих крестьян" со всей ясностью показывает, что это традиционный
российский способ заклинаний, стопроцентно повторяемый мэрией Лужкова в наши
дни. Стрельцам полагалось совершенствоваться в военном ремесле, однако так как
выплата жалованья задерживалась регулярно, то на мирные ремесленно-торговые
занятия стрельцов власти смотрели сквозь пальцы. В связи с этим податные ремесленные
слободы поднимали несусветный вопль протеста на, сказали бы мы сегодня, некорректную
конкуренцию — с тем же эффектом, что и нынешние протесты торговцев "в законе"
против коммерческих операций под прикрытием государственных, муниципальных или
благотворительных вывесок. Купцам было тоже не сладко — будучи записаны
в "сотню", они оказывались под угрозой выбора старшиной, что ничего,
кроме неприятностей, не обещало, тогда как экстраординарные поборы были столь
же уверенно предсказуемы, как нынешние повышения налогов.
Любопытно также и то, что единственным более или менее надежным имуществом москвичей
(дома сгорали в пожар как свечки, одни трубы оставались, но печку всегда можно
было обстроить избой заново) было пространство как таковое. При, казалось бы,
явном избытке пустой и пустующей земли места никогда не хватало. Всякий законный,
т.е. включенный в опись как тянущий тягло, владелец двора становился в московских
условиях держателем арендаторов и субарендаторов, которые именовались "дворниками"
и обеспечивали владельцу некий стабильный доход. И вновь замечательное в своем
роде постоянство ситуации, прекрасно известное сегодня всякому, кто пытается
найти в Москве сотню квадратных метров для устройства собственного офиса или
мастерской.
С одной стороны, москвичам приходилось сложнее других, так как над каждым вздохом
обывателя надзирало великое множество всевозможных начальников. С другой — легче
других, потому что из близкого соседства множества начальств и постоянной путаницы
в разграничении полномочий между имперскими и городскими властями следовало
великое множество неувязок и проволочек, так что для тихого своеволия обывателей
всегда доставало места. Только в серьезное большевистское время, когда специфическая
арифметика по Маяковскому (единица — нуль) возобладала над традиционной, своеволие
было твердо согласовано с позицией всякого "нуля" на иерархической
лестнице, тогда как множество таких лестниц одновременно придавало и своеволию
привкус вечного риска.
Именно в это замечательное время традиция подмены города одной "формой
города", блистательно предъявленная Петербургом, приобрела настоящее стремление
к абсолюту. Все пространство СССР выстроилось в системе концентрических кругов,
уже тем обозначив победу "формы страны" над страной. Категория близости
к идеальному центру нового мироздания имела немного общего с географией: Ленинград
был "ближе", чем какой-нибудь Можайск, ибо это был "город трех
революций"; Магнитогорск был "ближе" Вологды, так как это была
"стройка пятилетки", т.е. как бы в самой Москве осуществляемая; Тбилиси
был "ближе" Ташкента, но не в силу натуральной своей близости, а в
связи с родством с тотемным прародителем; Сталинград — тем более. Концентрика
продлевалась внутрь физической Москвы, так как подлинным центром мироздания
был по внешнему обводу Кремль, а уже в его центре — собственный кабинет Вождя
или даже лампа на его столе (при этом стилистика немецкого "модерна"
в ее стойке и абажуре утрачивала здесь всякий смысл, ибо то был Светоч). Игра
с замыканием новой вселенной на фигуре Основоположника, в облацех венчающей
суперпостамент Дворца Советов, завершилась, как известно, его мистическим воплощением
в целлулоиде нескольких фильмов, последним из которых был, кажется, "В
шесть часов вечера после войны". Напротив, финальным актом сооружения семи
пирамидальных объемов высотных зданий стало создание еще одной уже не мыслимой
только, но видимой воочию оправы вокруг известного кабинета, в коем, однако
же, Хозяин уже не рисковал появляться, закрывшись в Кунцеве и тем еще раз уподобившись
государям.
То, что в имперских мечтаниях Романовых было все же весьма ослаблено и снято
их домашне-романтическими устремлениями вовне центра (Петергоф, Павловск, Царское
Село) и невнятностью — то ли шпиль Петропавловской крепости, то ли Адмиралтейства,
то ли Ангел на вершине Столпа, было наконец выражено вполне и до конца. В нелюбви
к большому городу большевики также наследовали Романовым, но, вместо собственного
бегства в приятную пустынь Гатчины или Царского Села с их загородными дворцами,
предпочли "форму города" надеть на город людей как плотный намордник.
Еще раз напомним, что до 1936 г. не было и городских советов при всей их ублюдочности
— только губернские, т.е. и этим город был как бы сплющен и размазан по обширной
территории. Городские же советы были учреждены разом с районными, т.е. физиономичность
самой власти была сразу же по учреждению ее раздроблена на фрагменты, значимость
которых также была символизована предельно: в Бауманском голосовал Сам, Сталинский
был самоочевиден, Ленинградский был освящен именем города-знака. Даже само схождение
районов узкими клиньями к Кремлю отграничило районы "центральные"
от лишенных этой великой чести периферийных.
Физическая Москва могла при этом обитать в полуподвалах Центра и многообразии
бараков, быть расквартирована по сугубо ведомственному принципу, вплоть до насильственного
выселения из прежних домов, вдруг объявлявшихся ведомственными. Существование
физической Москвы имело лишь то значение, что она все же несла на себе каркас
идеальной "формы города", так что десяток новых ведомственных обиталищ
вдоль бывшей Тверской и Большой Калужской полностью замещал собой широковещательную
реконструкцию. Всеобщий, тотальный характер ведомственной принадлежности человеческого
существа еще раз устранял границу между городом и негородом, оставляя за собственно
"городом" только полулегальный мир "дна". В то же время
наличие или отсутствие паспорта четко делило страну на "городскую"
и "сельскую" половины, так что всякий обладатель паспорта был бы в
некотором смысле вполне "москвичом", когда бы не система тайных кодов
и отметок, выбрасывавших из этого привилегированного состояния всех, кто был
"минус три" или "минус тридцать", что возродило формулу
черты оседлости в рафинированном виде.
Слитность города со страной, невыделенность его тела из ее массы была дополнительно
обозначена апологией символического Пути к пяти морям, предметно очерчена протяженными
гранитными набережными во имя отождествления с Петром в черте города и в цепочке
шлюзов, представлявших собой триумфальные арки на пути к Кремлю и Кабинету,
будь то канал Москва-Волга или — уже после войны — Волга-Дон. Размножение
тотемных статуй Вождя также работало на выравнивание всей страны, ибо присутствие
монумента словно переносило точку его стояния к живому первоисточнику за стеной
у Красной площади — с этой точки зрения отсутствие статуи в Кремле и на площади
было совершенно логично.
Мы говорим только о Москве, вернее, о "форме Москвы", игнорируя все
прочие населенные пункты, совершенно резонно — ибо других пунктов в символическом
мире Советов не было. Вернее, они были, но только как тени, как ослабленные
иносущности все той же Москвы. К реальной Москве и реальным городам это имело
лишь то отношение, что эманация власти должна была получить непременное отражение
в собственных "кремлях" в каждой населенной точке советского пространства.
Эту тенденцию послесталинское время не только не ослабило, но и укрепило, размножая
предметы и имена, будь то "черемушки" или "дворцы съездов".
Наконец, еще одно как бы несуществующее обстоятельство вело к снятию границы
между городом и негородской частью страны. О нем бегло говорил Солженицын: всепроникающий
характер "зоны", метастазы которой начинались в каждой третьей подворотне,
за каждым вторым забором, за каждым фасадом, в каждом казенном здании. К 53
г. границы "зоны" или "опричнины" с новой "земщиной"
установить было все сложнее, и хотя изрядная доля лютости из этого феномена
ушла с хрущевских времен, все же всепроникающая система "почтового ящика"
(что может лучше выразить уравнивание точек пространства, чем почтовая кодировка)
осталась имплантирована в тело социального пространства более чем надолго. В
боковом фасаде Исторического музея, напротив мемориальной доски правдолюбца
и страстотерпца Радищева, было помещение, где на двух дюжинах экранов просматривалось
все пространство Красной площади и подходов к ней, равно как и прослушивалась
каждая квадратная сажень.
При столь мощной представленности нового совершенства собственно административная
форма города могла быть без особых забот унаследована от прежнего режима. До
июля 1917 г., когда Временное правительство попыталось осуществить реформу градского
управления, и вновь, окончательно с весны 1918 г., социальное тело города членилось
на полицейские части. По малочисленности полиции в роли ее штатского вспомогательного
корпуса выступал институт дворников, и эта парная структура существовала уже
так давно и прочно, что странные идеи реформаторов из Временного правительства
относительно гражданских свобод были понятны разве что одному из тысячи. Тем
более так, что вошедшая в пословицу коррумпированность этой парной структуры
нисколько не мешала относительной вольности перемещений, хотя и держала всякого
в состоянии необходимой настороженности. Полицейская часть была естественной
"монадой" городского бытия, в целом недурно обеспечивая обратную информационную
связь и сбор статистических сведений по линии Министерства внутренних дел.
Любопытно при этом, что хотя епархиальное членение на приходы имело место, оно
обладало только одним значением — сугубо внутрицерковным, обозначая собой наследуемые
и вакантные места священников и дьячков. Остаточные следы хотя бы некоторой
роли приходской сетки можно при желании усмотреть в системе адресов, где церковь-ориентир,
как правило, выступала первым элементом ряда последовательного приближения к
имени домовладельца, однако думается, что за этим элементарное и потому сугубо
полицейско-пожарное удобство ориентации и более ничего. Рядом со структурой
полицейских частей приходская сеть едва различима, что и естественно, ввиду
удержания Синодом полноты дисциплинарной власти вплоть до реанимации Патриархата
(скорее "формы Патриархата") усилиями Временного правительства. Социально-культурного
смысла система приходов не имела напрочь, проявляясь единственно в бытовой привычке
ходить в ближайшую церковь.
Советская власть оценила устоявшуюся систему как добротную и ограничилась тем,
что удесятерила ее численное выражение: полицейские части оказались расчленены
на значительно более мелкие милицейские участки, так что ежедневный ритуал обхода
"участковым" стал неотъемлемым элементом жизни теперь уже каждой коммунальной
квартиры, а все еще сохранившийся корпус дворников оказался стократ усилен корпусом
управдомов и доверенных квартиросъемщиков. На этом социальная форма города остановила
свое развитие и с хрущевского времени пребывает в состоянии неуклонной поступательной
деградации, пышный декаданс которой пришелся уже на наши замечательные дни почти
полной свободы выражения откровенной силы.
Есть одна преемственная черта, которая позволяет говорить об относительной устойчивости
"структуры города" при всем его подлинно слободском характере. Как
и во всей Европе и даже в большей степени, из-за отсутствия самостоятельных
цехов и гильдий в русском огороженном городской чертой пространстве бок о бок
соседствовали всегда убогие хижины, средние по достатку владения и хоромы относительной
роскошности. В некотором смысле уравненные и усредненные протяженностью равноглухого
забора, эти владения свидетельствовали о своего рода градском эгалитаризме —
четкое сословное право на локализацию не замечено, хотя внеправовые действия
по вытеснению или устранению нежелательного соседства могли случаться нередко.
В период бума, который многими с изрядным допущением именуется российским капитализмом,
прежняя структура не была поколеблена, так что ее останцы все еще замечены в
центральных частях городов, отнюдь не исключая первопрестольной. Впрочем, при
создании столь нового явления в российском городе, как доходный дом, произошла
замечательная в своем роде вестернизация, в ходе которой социальная структура
обрела неожиданную трехмерность: меняя статус от фасада, выходящего на главную
улицу, к третьему световому двору и от бельэтажа до мансарды или ее заменителя.
Первичное большевистское "уплотнение" перенесло новую, скорее сословную,
чем классовую структуру внутрь коммунальной квартиры, выстроив, хотя и не сразу,
сложную систему приоритетов локализации комнат относительно передней, телефона,
ванной комнаты и черного хода. Но это был очевидный паллиатив, и зрелое сталинское
градостроительство тяготело к формированию вполне замкнутых структур "домов
специалистов", но, за редким исключением (Дом правительства в Москве, Городок
чекистов в Свердловске, группы по Лесной улице в Ленинграде и т.п.), размах
был недостаточен, и соседства с прочими вполне избежать не было возможности.
Бурное сокрушение деревянных домов в эпоху великого хрущевского переселения
до некоторой степени ломало стереотип, формируя невиданный предметный эгалитаризм,
однако уже к концу 60-х годов прежний порядок был восстановлен, и "дома
улучшенной планировки" начали возникать в прямом и открытом соседстве с
пяти- и девятиэтажными сборными емкостями для статических единиц горожанства.
Десятилетием позже такие дома вновь, по-сталински, начали группироваться в отдалении
от прочего городского люда.
И наконец, уже в наше время наблюдается нормальный и признанный процесс имущественной
сортировки горожан по кварталам и группам кварталов. Экономическое начало, все
еще теснимое традиционным началом привилегий, начинает проступать в своей спокойной
наготе, что, возможно, открывает главу собственно городского существования,
вне экономических оснований немыслимого.
Мы можем оставить в стороне множество элементов того, что именуется обычно городской
инфраструктурой, начиная от водопровода и кончая транспортом и уличным освещением:
довольно последовательно поспевая за мировым прогрессом, Россия в этом отношении
сохраняла отчетливо патерналистскую схему поведения. Масляные, а затем газовые,
керосиновые или электрические фонари могли быть дарованы обывателям или нет,
от самих обывателей сие не зависело, и им оставалось ждать, надеяться и выражать
восторг, когда надежды нечаянно сбывались. Речь все о той же "форме города",
которая затрагивала, разумеется, жизнь обывателя, но исключительно в страдательном
залоге его самосознания. Единственное, что при всех режимах не возбранялось,
— писать жалобы и прошения, если при этом не утруждали начальство сверх меры
его терпения. Ничего, что в этом отношении выделяло бы горожан сравнительно
с обитателями деревни, выселок или аула, не обнаруживается достаточно долго.
Здесь мы можем наконец освободиться от груза первичной эмпиричности, в которой
несть числа любопытным деталям, в совокупности не приближающим нисколько к пониманию
целого. По-видимому, самое интересное заключается в осмыслении того, каким образом
в стране Гардарики соотносились и соотносятся между собой город или, скорее,
пространство интенсификации общежития и то, что следует признать либо по меньшей
мере именовать культурой.
Если в полулегендарные домонгольские времена можно все же говорить о некоторой
культуре княжеского двора, заимствованной в формах и литературных сюжетах у
северо-западных и западных соседей, то в Московские времена и особенно после
триумфа иосифлян над нестяжателями мы имеем дело исключительно с государственной
формой культурных институтов. При этом нет даже оснований говорить о каком-то
противостоянии между этой "верхней" культурой и обыденно-бытовой,
ибо вторая была почти без остатка поглощена первой (характеристика Елисаветы
Петровны, данная в свое время Ключевским, сохраняет силу и вперед по времени,
и назад). Двор поглотил собой поселение, да и другие поселения тоже, недаром
все бесчисленные волости управляются из одного Приказа, напрочь не позволяя
им, даже в зажиточной и образованной части, обособиться. Записи о твердом преследовании
"умников", т.е. едва ли не еретиков, хотя и скупые, говорят о многом.
Заметим также, что единственные солидные авторские источники, которые до нас
дошли, принадлежат перу или приказного дьяка Феодосия Курицына с его "Лаодикийским
посланием", а позже думного дьяка Котошихина, или ученого крестьянина Посошкова
— мещане, по-видимому, безмолвствуют.
Самозамкнутость и ретроградность православного монастыря, тотально отгороженного
от "еллинских мудростей", лишали его шанса на самостоятельную культурную
работу, о чем уверенно свидетельствует бурная история Соловецкого монастыря,
вполне развитого в хозяйственном, но не в интеллектуальном отношении и в лучшие
свои Колычевские годы. Московский Кукуй был, конечно, довольно зрелой колонией,
но в пространстве города-страны это было "антипространство", черная
дыра, в опасные недра которой мог дерзнуть заглянуть только Петр. Его героические
усилия привить западные инженерно-инструментальные навыки мощному стволу местного
dolce far niente породили-таки первые, пусть хотя бы внешние признаки собственно
городского поведения — "форму городского общежития": ассамблеи, театральные
храмины, регулярство застройки, невиданность дерзкого шпиля над военной, но
уж по крайней мере нецерковной постройкой, триумфальные арки и фейерверки, регулярные
сады, где приказано было веселиться с усердием, и пр. и пр.
Подобно тому как smile, please! рано или поздно порождает привычку учтиво улыбаться,
военные парады и уподобленные им во всем "градские" празднества, навык
чтения газеты и глазения на зрелища, приученность к аккуратности иноземца, с
утра пораньше открывающего свой "васиздас", — все это с чрезвычайной
скоростью за пару поколений породило совершенно новую геометрию пространства
культуры. Нравилось или не нравилось это, но пришлось привыкнуть, что в центре
страны — петербургский двор и смесь обслуживающей и озирающей его мещанской
толпы, познающей толк в моде — моде на все. Филипп Филиппович Вигель оставил
нам несравненные в язвительной точности описания, будь то смена стилистики салонов
и гостиных от Екатерины к Павлу и затем — к Александру (чего стоит одна трактовка
фрака и круглой шляпы при Павле как наказуемого революционизма) или смешноватое
отражение столичности в жилищах пензенской аристократии. Материалы мемуаров
нарастают с каждым десятилетием весь девятнадцатый век, и все это информационное
богатство свидетельствует о том, что из механического повторения придворных
артикулов вырастала все же шаг за шагом авторская имитация — светского ритуала,
убранства, музицирования, живописи, литературы: примерно в этой последовательности
во времени. Все это, однако, любопытным образом распределяется в пространстве:
Двор как реальность или как удаленный идеал — Поместье, в какой-то мере уже
сближенное с чем-то вроде английского manor house после опубликования указа
о вольности дворянства, тогда как городская усадьба оставалась все еще скорее
сезонной городской квартирой, не более.
Здесь мы впервые соприкасаемся с предметом, нуждающимся в пристальном внимании,
поскольку предыдущие эпохи недокомментированы и полулегендарны. Культурные ценности
транслируются в особом сложно организованном пространстве. Одну структуру можно
именовать казенной — отношения между индивидами и семейными кланами отстраиваются
в ней относительно табели о рангах и правил игры, задаваемых Двором. Это суть
отношения служебно-светские, формализованные, формируемые в Петербурге как единственном
центре (иными словами, здесь Пушкин важен в чине камер-юнкера). Другую структуру
можно именовать соседской — отношения между индивидами и семейными кланами отстраиваются
в ней от физического соседства помещичьих усадеб в необозримом пространстве
(здесь Пушкин важен в роли владельца Михайловского).
Казалось бы, ничего специфического здесь нет — до реального торжества презирающего
время капитализма (а частью и после) сезонные перемещения образованного сословия
из города и в город были нормой для всей Европы. Однако все то же специфическое
обстоятельство сверхпротяженности придает стандартному процессу совершенно особое
качество. Достаточно вчитаться в страницы "Багрова внука" Аксакова
или меморий князя Кропоткина, чтобы ощутить в полноте значимость великих сезонных
переселений в дальние поместья и обратно. Переход из одного мироустройства в
другое был столь растянут во времени, что мы имеем дело не столько с преодолением
пространства, сколько с растворением в нем через ступенчатую метаморфозу, начинавшуюся
за городской заставой.
Взаимодействие обеих структур было естественным и неизбежным, ибо ролевые позиции
замыкались на тех же индивидов, однако в первой, в ее абсолютном выражении,
обязывала схема подчинения единому Pater Patriae как Pater Familia по совместительству
(Николай Первый, лично проверявший, не спят ли будочники), тогда как во второй
— отношения вырабатывались еще и лично, иногда личностно. В первой структуре
дистанцированность от плебса была тем абсолютнее, чем сильнее провозглашалась
"народность", во второй — говорить о дистанцированности не приходится
ни в коем случае, причем трансляция ценностей осуществлялась в оба направления:
от бар к дворне и ее крестьянской родне и обратно. Наконец, в городской усадьбе-квартире,
переполненной дворней, обе ролевые структуры неизбежно сложным образом соприкасались
и взаимодействовали, уже тем закладывая основы разночинной взрывоопасной культурной
метизации.
Крепостным мастерам с немалым трудом удавалось относительно воспроизводить мебель
Рентгена, Гамбса или Чиппендейля — затем уже восхитительным образом детали "античного"
декора воспроизводились топором в убранстве крестьянских изб, а бесчисленные
саксонские статуэтки "копировались" в форме расписных глиняных свистулек.
Росли библиотеки и портретные галереи, особенно трогательные в третичных провинциальных
изделиях, в наше время любовно реставрированных и выставленных в музеях. Все
это — в усадьбе, тогда как в городском жилище, упорно остававшемся вторым, все
было стандартнее и беднее — блистательное описание оставлено в записках
князя Кропоткина о кварталах Пречистенки его детства и юности.
Пожалуй, все же разночинный меланж, эта странная смесь семинарских предрассудков
с осколочными уподоблениями дворянским образцам в значительно большей степени
объяснима как реакция отторжения на фантом городской буржуазной gemutlichkeit,
каковую с немалым удовольствием воспринимали за границей, но вместе и ненавидели
(см. мемории Афанасия Фета). Такое отторжение давалось тем легче, что ненавистный
призрак как-то объединялся в сознании "критических реалистов" с вполне
реальным образом слободского приказчика-хама, грядущего охотнорядца-черносотенца.
Не лишено занятности, что те самые кофейни и кондитерские, что в Европах были
убежищем классического мещанского люда, в Петербурге или Москве становились
бомондными местами, тогда как разночинцы теснятся в одних трактирах с ямщиками
и сезонными строителями, не объединяясь с ними психологически, но только испытывая
жажду объединиться с ними в духовном порыве. Во всей "физиологической"
прозе и в особенности у писателей второй руки, которым не хватало сочинительских
претензий на "художественную форму" и потому окружающая действительность,
хотя и в несколько олеографической шлифовке, прорывалась в их тексты сильнее,
чем у великих, городское и слободское приравнены и почти отождествлены. В ряде
очерков Н.Лескова или особенно Г.Успенского и А.Шеллер-Михайлова это проступает
с особенной наглядностью.
После Великой Реформы наблюдается некоторое шевеление гражданских чувств, проявляющееся
не только в новомодном судопроизводстве, но и в тяготении складывающихся местных
сообществ к тому, чтобы дополнить обычные балы театром — как любительским, так
и все чаще профессиональным. Возникают или жертвуются публичные библиотеки и
— при отчаянном обычно сопротивлении власти — школы и училища. В силу нерегулярности
и эфемерности существования это, как правило, скорее, все же клуб, растянутый
на увядающие усадьбы по соседству и без них немыслимый и в огромной, совершенно
недооцененной степени — на младшее офицерство полков, непременно расквартированных
по городам. Иными словами, зарождающееся культурное движение имеет в подавляющей
степени запоздало-дворянский характер, тогда как наследники разночинцев начинают
рядиться в народное платье и устремляться в деревни.
И вновь мы сталкиваемся с не предвиденной никем оригинальностью российского
пространства культуры. Как бы собственно городская, т.е. в достаточной степени
интернациональная (даже в своих суперпатриотических проявлениях, вроде Тенишевского
Талашкина), культура в своих основных компонентах формируется и развивается
отнюдь не в городе, а в дачных зонах обеих столиц. Мы имеем дело с малоисследованным
феноменом сугубо "дачной" культуры, из которой вырастают действительно
уже вполне самостоятельные культурные движения от Чехова до круга "Мира
искусства" и всех, кроме разве одних футуристов, авангардистов начала нашего
столетия. Любопытно при этом, что именно разночинная молодежь с особенной остротой
противостоит слободскому началу, предаваясь греху эскапизма во множестве вариаций:
от "версальской" А.- Бенуа до "парижской" К. Коровина, через
"петербургскую" М.- Добужинского, Е.- Лансере, А.Остроумовой-Лебедевой
или А.- Ахматовой и до "балетной" у Л.- Бакста или А. Головина. Мир
дачи есть мир добровольного временного соседства индивидов, что создавало призрачный
мир свободы досужего общения, самопроизвольного обмена ценностями, уже в городских
зимних условиях продолжавшего дачное сообщество, освобождая его от неизбежной
вынужденности, порождаемой фактом физического соседства и его культурной нагрузкой.
Печальным парадоксом можно счесть факт, что именно в тот самый момент, когда
отечественная культура приобретает вполне отчетливые признаки городской ее формы,
слободская (она же местечковая в значительной части) контрреволюция большевиков
наносит ей удар, от которого та начинает оправляться лишь в славную эпоху зрелого
застоя.
Собственно городская среда все в большей степени оборачивалась сосуществованием
нового кремлевского "двора" с его обособленными от прочих смертных
"поместьями" и слободским миром припромышленного бытия, интенсивно
окрашенного вторжением "лимитного" контингента. Однако при своей рыхлости
это целое, не успевшее еще вполне окрепнуть в застывшие формы, допустило и продолжало
допускать сложноассоциированное существование ячеек индивидуального бытия.
Кухня отдельной квартиры заменила собой или дополнила существующую дачу, так
что этой странной паре "кухня-дача" обязано рождением все одушевление
самопостигающей "городской" культуры.
Едва осознав себя, она вступает, однако, в опасный для ее "домашних заготовок"
контакт с данной в романтизируемых осколках реальностью мировой культуры, вмешивается
в нее с различной степенью умелости и, во многом растворяясь в ней, начинает
уступать место росткам подлинной мещанской культуры, сводящейся преимущественно
к сугубо внешним признакам урбан-цивилизованного ритуального поведения.
Острая реакция на эту коллизию естественным для России с ее сочетанием комплексов
неполноценности/исключительности образом принимает форму защитного кликушества
с православной окраской, так что вновь, в который уже раз, мировой "город"
и его слабое проникновение в панслободскую реальность воспринимаются как воплощение
вселенского порока. Антизападность и антиурбанизм (странная форма противостояния
тому, чего, собственно говоря, нет, т.е. фантому) сливаются в отечественной
культуре задолго до перестроечного морока. Тщательный сплошной анализ журнала
"Новый мир", одного из самых нейтральных среди "толстых",
за двадцать лет[2] дал весьма занятную картину. Во-первых, городская среда или
хотя бы эскизно очерченные городские "кулисы" оказались представлены
лишь в одной публикации из семи. Во-вторых, лишь в двух публикациях за два десятка
лет эти "кулисы" были явлены хотя бы сочувственно, тогда как подавляющее
число сочинений, трактуя город походя, опирали свои оценки скорее на "Калину
красную" В.- Шукшина, чем, скажем, на "Шурку и Просвирняка" М.-
Рощина. В-третьих, в хоре ламентаций по поводу бесчеловечности городского бытия
отчетливейшим образом проступает классическое замещение: неприязнь к социальному
и психическому устройству здешнего мира в целом переносится на почитаемый безопасным
предмет — "город". Слободское сознание не любит самое себя, но ко
всему неслободскому относится с явной ненавистью, каковая много позже, уже в
девяностые годы, прорвалась наконец на поверхность в публицистике А.- Проханова
или Ю.- Власова или коллажно-образных речениях С.- Говорухина.
Слободское есть принципиально неукорененное, свободное от иной исторической
мотивированности, кроме собственной, не слишком обремененной деталями памяти
"Растеряевой улицы". Когда после Великой Реформы наново отстраивались
границы между областями земской и городской упорядоченности, слободы оставались
обычно "ничьей землей". Вряд ли случайно, что в полицейских отчетах
о состоянии дел в неустроенной зоне на стыке Ярославской, Костромской, Владимирской
и Нижегородской губерний слобода Ивановская, нынешний областной центр, упорно
именовалась "дикой Америкой". В силу всеобщей специфики ранней индустриализации,
которая развертывалась преимущественно вне городов, наблюдалась вполне последовательная
"слободизация" промышленных сел, вроде Кимр с их обувным промыслом,
а затем и формирование мощных фабричных окраинных слобод больших городов, будь
то Выборгская сторона Петербурга или московское Сукино Болото за Рогожской заставой.
Слободское непременно означало временное, в любой момент готовое к изгнанию,
сносу и перемещению, обустраивающееся кое-как, чтобы день прожить, принципиально
чуждое и даже враждебное всякому оттенку стабильности, наследуемости, вкореняемости.
Нельзя сказать, чтобы понятие о собственности вовсе было чуждо слободе, однако
распространялось оно исключительно на невеликую движимость, скудный предметный
мир, почти целиком вмещавшийся в пару "фибровых" чемоданов с уголками,
тогда как за кой-как латаным забором простирается сразу же "дикое поле".
Нельзя также сказать, чтобы мир слободы был напрочь лишен чувства прекрасного,
однако и оно охватывало собой скорее одежду по особой слободской моде и непременные
картинки из "Нивы" (в советское время — из "Огонька"), никоим
образом не простираясь на выстройку внешнего облика жилищ.
Тотальная слободизация развертывалась в России вполне интенсивно в послереформенное
время, вовлекая в себя села, регулярно поставлявшие в Петербург и Москву сезонных
отходников или крестьян-резидентов, вроде папаши С.- Есенина, двадцать лет обитавшего
на Мясницкой, и поселки вдоль основных трактов. Великое уплотнение после Октябрьского
переворота означало, среди прочего, массированное наплывание окраинной слободы
на самые городские центры, так что и в сталинское, и в хрущевское, и в брежневское
время пришлось немало потрудиться, чтобы вновь оттеснить слободу, уже в новом
ее крупнопанельном издании, на окраины, высвобождая центр для новой элиты.
Наконец, вторичная, уже советская индустриализация могла и порождала одни только
промышленные слободы, в строении которых самая идея собственно городского, резидентного,
мещанского самоустроения отсутствовала изначально, так что и взяться ей было
неоткуда после того, как первый толчок разрастания в пространстве "дикого
поля" иссякал.
Великая Реформа создала, казалось, определенные перспективы для становления
автономного городского управления. Однако и с самого начала в 1860-е годы, и
особенно после возвратных реформ Александра III имущественный ценз был настолько
завышен, что на всю двухмиллионную уже Москву 1904 г. набралось около семи тысяч
лиц с правом голоса. Если же добавить, что центральная власть постаралась напрочь
лишить Думу сколько-нибудь серьезных полномочий и самостоятельной экономической
базы (любое решение Думы требовало генерал-губернаторского утверждения, а городской
налог не мог превысить и трех процентов бюджета города), то не приходится удивляться
тому, что и из столь малого электората в выборах принимала участие от силы половина.
И все же естественным ходом событий ростки самоуправления пробивались и начинали
укореняться — обычным образом отнюдь не в городской черте в первую очередь,
а "на даче", о чем может, к примеру, замечательно свидетельствовать
"Устав общества благоустройства поселка "Левашово", каковое "Определением
С-Петербургского Губернского по делам об обществах Присутствия от 14 апреля
1912 г. внесено в реестр обществ и союзов С-Петербургской губернии за # 11",
утвержденный губернатором графом А.В.Адлербергом. К началу Первой Мировой войны
усилия недурно подготовленных европейским опытом экспертов начали уже кумулироваться
в некий социальный эффект, так что Временное правительство имело все материалы,
чтобы приступить к делу радикальной градской реформы. По обычной иронии отечественной
истории проект этой реформы, включавший в нескольких вариациях довольно развернутую
модель городского Устава, был готов к рассмотрению в октябре 1917 г.
В силу некоторой инерции и за недосугом властей, работы над уставами, основой
информационной базы и учебными курсами для подготовки городских менеджеров продолжались
еще в годы НЭПа, пока им не был положен натуральный предел вместе с расстрельным
финалом краеведческого земского движения.
В силу двойственности руководящего и направляющего учения, согласно которому,
с одной стороны, полагалось всемерно растить объем индустриально-городского
населения, а с другой — всякая автономность города как социального института
отрицалась per se, ничто уже не могло препятствовать торжеству слободизации
страны.
Таковая и свершилась в полноте.
Культура обнаружила способность существовать и воспроизводиться в панслободском
пространстве, что само по себе не вписывается в классическую дихотомическую
схему всемирной истории цивилизации. Панслободской мир являет собой отрицание
цивилизации, но не стал смертью культуры городской ориентации ни в коей мере.
Не лишено интереса то обстоятельство, что демократические или мнящие себя таковыми
движения перестроечного и постперестроечного времени хотя и рождены в городах,
напрочь лишены градской ориентации. Обычная для России революция сверху не испытывала
ни малейшей нужды в муниципальной опоре и нимало не была озабочена фактом полной
выключенности муниципального управления из процесса каких бы то ни было преобразований.
Выборы 1989 г. вытолкнули в городские "верхи" некоторое число "демократов",
которые, ни минуты не медля, отдали малоинтересные для них обстоятельства городского
функционирования на откуп традиционной бюрократии, антиурбанистической по существу.
В результате привычная отраслевая модель управления не только не была поколеблена,
но, напротив, могла лишь укрепиться, все интенсивнее разучивая новые возможности
использования институтов управления в своих целях.
Радикальнейшие по видимости преобразования, свершившиеся в Москве, а именно
ликвидация районов и новое генеральное межевание по административным и, ниже,
муниципальным округам, были осуществлены единственно по соображениям ликвидации
ядра политического сопротивления новой мэрии. Отраслевая машина управления,
по определению не видящая вообще города как единого института, являющегося опорой
городскому социуму, выросла в значении на порядок, как только высвободилась
из-под партийной сетки, хоть как-то интегрировавшей город по территориальному
принципу: четыре из пяти московских вице-премьеров, представляющие интересы
строительного комплекса, — рекорд, вполне достойный книги Гиннесса. Учреждение
муниципальных округов и вместе с тем оставление их глав без ясных легитимных
полномочий и средств для их реализации создали небывалую свободу действий для
централизованной бюрократии. Департамент мэра, сочиненный Г.Поповым как очевидный
противовес чрезмерной концентрации силы в руках правительства Москвы и, теоретически,
как разработчик некой общей политики развития города, не имеет самостоятельной
строки в бюджете, т.е. кормится из рук правительства и не может претендовать
на самостоятельную политическую роль[3] . Комитеты самоуправления, эти нередко
хилые и уродливые, но все же реальные ядра кристаллизации низового демократического
механизма контроля над городской средой, настолько неуместны в обстановке чиновничьего
произвола, что господину Лужкову оставалось только воспользоваться обстановкой
путча в октябре 1993 г., чтобы приостановить их деятельность под предлогом поддержки
супостата. Наконец, подготовка временного положения о городской Думе до выборов
в таковую осуществлена самой мэрией таким образом, что почти в полноте воспроизведена
схема Александра Третьего, когда думские решения должны быть сначала согласованы
с мэрией, а затем ею же утверждены, чтобы обрести силу.
Остается достроить проект городского устава таким именно образом, чтобы исключить
какой бы то ни было шанс на прорастание механизмов городского самоуправления
сквозь решетку тотального менеджеризма авторитарной или олигархической модели.
Нельзя не признать, что слободизация города победила. И надолго. В опоре на
старую российскую традицию большевикам все же удалось достичь той меры распада,
атомизации общества, когда какое бы то ни было ассоциирование или объединение
интересов автономных личностей в городские структуры снизу вверх оказалось заблокировано
— и не столько злокозненностью начальств, сколько отсутствием даже в зародыше
того корпоративного начала, без которого городская форма цивилизации невозможна.
В этих условиях нет преград ни сочинению наново некоего "градостроительного
законодательства", ни продолжению в своих прежних формах "градостроительного
проектирования", ни принятию городского устава, не являющегося городским.
Нельзя, впрочем, позволить себе усомниться в том, что новые экономические отношения
все же прорвутся сквозь бюрократическую фантазию (пусть вначале и в самых уродливых
формах), что это поведет к становлению хотя бы мафийно-корпоративных отношений,
что этот процесс начнется, если уже не начался, не в Москве и не в С.Петербурге,
а в средних провинциальных городах, которым суждено, как и в прошлом, возглавить
земское движение. Никоим, однако, образом не предрешено, что такой земский процесс
примет форму вторичной или подлинной, т.е. западной, урбанизации.
То, что городское начало, а вместе с ним западный цивилизационный стандарт не
могут самопроизвольно прорасти из самодвижения слободского континуума отечественной
культуры, для меня очевидно. То, что способность культуры прорастать на субстрате
слободы, в лучшем случае к ней безразличном или, скорее, враждебном, полностью
зависит от подключенности механизмов отечественной культуры к ее (культуры)
мировому механизму, доказуемо хотя бы "от противного". Реальный вопрос
заключается в том, вечна ли схема слободской организации субстрата культуры
в пространстве России, могут ли относительно устойчиво существовать "острова"
городского начала, узлы чужеродной цивилизованности внутри панслободы, или их
рассасывание и втягивание вовнутрь неотвратимы никакими ухищрениями?
Логических оснований для ответа обнаружить не удается.
Оригинал этого материала опубликован на сайте «Русский архипелаг».