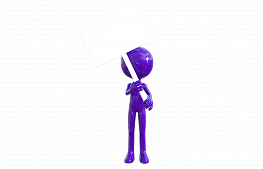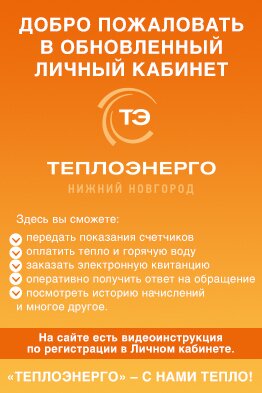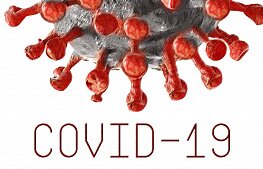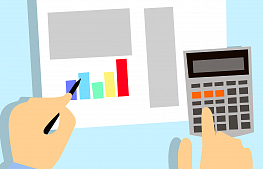






Социальные консерваторы – вчерашний день России
«АПН — Нижний Новгород» представляет вниманию читателей фрагмент стенограммы очередного заседания Нижегородского эксперт-клуба, прошедшего 19 мая 2006 г. в конференц-зале газеты «Биржа» и посвященного теме «Социальная структура России: мифы и реальность».
Михаил Тарусин, руководитель отдела социологических исследований Института общественного проектирования:
В данном случае я с одного боку представляю Институт общественного проектирования, который создан полтора года назад и уже что-то напроектировал, не всегда понимая сам, что именно. Собственно, поэтому мы и ездим по России и общаемся с людьми, чтобы вместе все-таки понять, что получается. Поэтому свой проект я сейчас буду представлять вам.
А с другого боку я представляю Клуб 4 ноября, который является достаточно новой, мне кажется, для России политической инициативой, но берущей свое начало еще два века тому назад, наверное, с тех идей, которые пришли в голову еще когда-то нашему русскому историку Карамзину, потом немного позже после него — Борису Николаевичу Чичерину. Это идеи либерального консерватизма, идеи политического устройства общества на началах, соединяющих в себе как идеи свободы, идеи внутреннего развития человека, так и идеи сильной государственности, традиционно для России актуальной.
Вот эти идеи не смогли стать мейнстримом российской политической и общественной мысли в XIX веке, поскольку общество вдруг неожиданно стало спорить совсем о других вещах, что привело, собственно говоря, к тому, что произошло в начале уже XX века, и 70 лет мы были втянуты в очень сложный и, как оказалось, тупиковый эксперимент.
Однако это не мешает нам сегодня опять вернуться к этим идеям русской философской и политической общественной мысли еще первой трети XIX века и попробовать их осмыслить уже на материале века XXI.
В Послании президента одна из первых фраз была о том, что необходимо понимать состояние современного российского общества, чтобы выстраивать какую-то государственную политику. И когда он это сказал, так получилось, что в этот самый момент из типографии выехала машина, груженная тиражом книги, которая называется «Реальная Россия».
Книга написана нами по материалам, по анализу первого крупномасштабного целевого исследования российского общества, которое было проведено в начале прошлого года.
Это было очень крупное исследование, пожалуй, такого в России еще не проводилось: опрошено 15 тысяч человек по всей стране, исследование затрагивает разные стороны жизни современных россиян. Но главная задача наша была не в том, чтобы в очередной раз понять, какие у населения политические пристрастия (хотя это тоже была одна из задач), а главная задача была – понять, как сегодня наше общество устроено с точки зрения социальной структуры. Ведь социальная структура отражает те характеристики общества, которые говорят об уровне и особенностях его развития на данный период.
Еще в 90-х годах говорить о какой-то социальной структуре было бессмысленно, поскольку общество находилось в таком хаотичном состоянии всеобщего обнищания, что, конечно, нельзя было выделить никаких основных параметров, по которым можно строить какие-то градации между группами.
Но уже начиная с 99-2000 годов мы почувствовали, что в обществе начинается естественный процесс самоорганизации. Как вообще в любом живом организме (а общественный организм – это тоже живой организм) происходят процессы самосохранения, самоидентификации.
И вот эти социальные процессы происходят независимо от постановлений какой-либо партии или правительства, независимо от разработки программ, среднесрочных или долгосрочных. Общество само по своим законам – кстати, еще неизвестным социологам (когда они говорят, что что-то знают – не верьте им) – начинает процесс самоорганизации.
Мы этот процесс почувствовали – почувствовали, что он начинается, он уже идет. Недаром журнал «Эксперт» в течение последних семи лет пытается определить, чем характеризуется общество.
Прежде всего – наличие среднего класса, есть он или нет. Намеки на средний класс появились уже в конце 90-х годов. Потом все процессы стали происходить с такой интенсивностью, с такой динамикой, что мы поняли: да, вот сейчас уже можно померить социальную структуру. И вот мы ее, собственно говоря, и измерили.
Очень интересной и очень неожиданной оказалась структура современного российского общества. Это пирамида, но пирамида, построенная не просто по уровню благосостояния. Это пирамида, которая основана на, как минимум, трех основных индикаторах, из которых и складывается социальное расслоение. Уровень образования и профессиональной квалификации — это одна шкала, по которой мы меряем положение человека в обществе. Социальный статус, престижность этого социального статуса — второй индикатор. И третий – личный доход.
По этим трем индикаторам мы провели кластерный анализ и получили следующую структуру. Да, действительно, у нас есть средний класс. Мы можем сказать, что он существует и занимает достаточно большую нишу – примерно 25 процентов. Причем средний класс внутри себя далеко не однороден.
Там есть люди, принадлежащие к верхнему слою среднего класса: это собственники, «белые воротнички». Там есть просто специалисты высокого класса, с высоким уровнем образования, гуманитарии-интеллектуалы. Кроме этого, там присутствует еще и «рабочий люд» — высококвалифицированная рабочая сила, которая сегодня находится в основном в зоне капитализма, то есть они работают на капитализм, который им хорошо платит. А там, где зона капитала, там у нас рабочие, которые стабильно и уверенно входят в этот самый средний класс.
Потом, конечно, у нас есть «середняки». Они не бедные, но нельзя сказать, что они находятся в зоне благосостояния. Хотя они к ней приближаются. Это ближайший резерв среднего класса.
Между прочим, по нашим данным, среднего класса вообще не было сначала, в прошлом году он составлял 25 процентов, а сейчас уже где-то 27-28 процентов, по нашим предположениям.
У нас есть очень большой слой бедных, который тоже далеко не однороден. Две трети, самый «подвал» пирамиды – это старики. В нашей стране, когда человек выходит на пенсию, он тут же скатывается на социальном лифте в минус первый этаж – со свистом таким, просто с грохотом. Единственная возможность для этого человека — воспользоваться достатком семьи. Но у нас очень много людей, которые к старости остаются одни или живут отдельно и фактически не получают помощи от родственников, а от государства помощи не дождешься.
Помимо этого, в слой бедных входят люди с низким уровнем квалификации и образования — в основном люди рабочих профессий, которые не могут профессионально адаптироваться.
Впервые в истории страны мы померили престиж профессий. И у нас учитель, ученый, педагог, врач, медсестра находятся не в самой низкой престижной группе, а во второй снизу – там же, где разнорабочий, вахтер, дворник. Это интеллектуалы госсектора.
Сейчас начинается реализация национальных проектов, направленных в том числе на улучшение качества жизни сотрудников сфер образования и здравоохранения. Как обычно, они проходят так, что лучше бы они не начинались. Мы сейчас опрашиваем людей в поликлиниках, и люди говорят: «Вы что делаете? Вы повышаете ставку участковому врачу, который и так прекрасно зарабатывает на бюллетенях, и вместе с тем не добавляете специалистам, к которым участковый врач постоянно отфутболивает всех больных, диагноз которым он не может сам поставить в силу своей очень низкой квалификации». И в поликлинике начинается раздрай, раскол на две профессиональные группы.
То же самое – с медсестрами: одним медсестрам что-то добавили, другим нет. Тут сразу возникает опасность социального напряжения, когда мы говорим о национальных проектах.
Мы исследовали отношение к новой экономической системе, предложенной государством. Мы выяснили, что на самом деле наше население очень спокойно, очень легко и с большим удовольствием вошло в рыночную экономику, фактически в полном составе.
У нас нет социальных групп, которые отвергали бы рыночную экономику как абсолютно для них чуждую. У нас даже в том самом нижнем слое стариков более или менее нормальное отношение, просто человек говорит: «Я никогда сам не смогу этим заниматься, но я хотел бы, чтобы мои дети или внуки были частными предпринимателями», — говорят нам старики. Причем среди них очень высок процент тех, кто желает, чтобы дети или внуки стали предпринимателями.
Кстати говоря, существует нормальное, довольно спокойное отношение и к крупному капиталу. Советники президента сказали неправду, что люди у нас не любят представителей крупного капитала. Да нет, это не так. У нас люди очень не любят олигархов. У нас есть в массовом сознании вот такой абсолютно четкий, осознанный термин, просто ругательный: олигарх – бандит, мерзавец.
Но если крупный капиталист в регионе создает рабочие места, занимается благотворительностью или делает вид, что занимается благотворительностью, – к нему совершенно нормальное, спокойное отношение. И противопоставлять мнение нищего озлобленного народа и крупного капитала – это неправильно. Этого нет сегодня в России. И зачем делать вид, что это есть, я не очень понимаю.
Наконец, мы померили и хотели посмотреть, какая у нас сегодня идеологическая, политическая палитра в разных социальных группах. Оказалось, у нас довольно широкая палитра, которая выглядит примерно следующим образом.
Справа находятся либертарианцы. Это ребята совершенно оторванные. Свободу им – и все! Как у Ахматовой: «Свобода – гулящая девка на шалой солдатской груди…»
Затем у нас идут примерно 25 процентов тех самых либеральных консерваторов. Это люди, мировоззрение которых сочетает в себе как ценности демократии, прав человека, свободы слова, так и ценности сильной государственности, сильного закона, сильной власти, но обязательно – справедливой, в смысле – подчиняющейся закону, так как требование законности в России сейчас стоит над всеми остальными.
У нас есть социальные консерваторы, их примерно около 32-х, то есть около трети. Социальные консерваторы – это люди более зрелого возраста, которые гораздо менее социально защищены.
Наконец, у нас есть социал-популисты, примерно 6-7 процентов; это «соколы Жириновского», люди, склонные к полярным проявлениям своих политических воззрений.
Я хотел бы сказать о тех трех мифах, которые, на мой взгляд, сегодня существуют.
Первый миф – это миф о состоянии современного российского общества. Очень многие представители сегодняшней российской элиты говорят о российском обществе довольно справедливо. Но с одной поправкой – они говорят об обществе середины 90-х годов. Они говорят о том обществе, которого давно уже не существует. Это называется словом «диффамация» — то есть распространение порочащих сведений, которые не носят клеветнического характера.
Да, все, что говорится сегодня о российском обществе, во многом верно. Но представьте, вот вы с женой прожили 20 лет, и вас спросят: «Ну как жена?» — и вы начинаете перечислять: «У нее прыщ на физиономии, она орет по утрам…» — у вас получается просто какой-то монстр, а не человек. А то, что она вам при этом двоих детей родила, тянула семью, что она в голодные годы «пахала» к тому же, что она вас пьяного затаскивает каждые три дня, моет, раздевает, и масса еще других вещей остаются за кадром.
Таким образом, очень опасно, мне кажется, относиться к российскому обществу так, как сегодня к нему относятся многие люди, которые имеют голос в общественном пространстве. Потому что таким образом просто отнимается некая общественная энергетика, и общество лишается веры в себя. Это нехорошо.
Второй миф. Не совсем, как нам кажется, правильно оценивается политическая палитра общества. Опасно и недальновидно опираться только на слой социальных консерваторов. Они существуют, и это большое количество людей. Но надо понимать, что это сегодняшняя Россия и, возможно, ее вчерашний день. А завтрашний день страны, если мы с вами хотим богатеть, развиваться, становиться сильнее, завтрашний день страны – это те, кто сегодня представляет другое крыло общества.
Что такое политика? Это то же самое соотношение спроса и предложения. Если со стороны общества есть спрос, то политика должна возвращать обществу этот спрос в виде какого-то политически оформленного предложения. Вот этого, на наш взгляд, сегодня не происходит или происходит неадекватно тому спросу, который существует в обществе. И это очень важно.
Наконец, третий миф – о политической апатии в обществе. Он миф не потому, что это не так. Это миф потому, что тут неверно названа причина. А причина заключается в том, что в нашей стране чрезвычайно низок уровень доверия общества к власти. У нас есть три социальных института, которые пользуются доверием общества – это президент (но это персонифицированное доверие, не к институту президентства, а к человеку), церковь и армия. Кстати, обратите внимание: Бог, Царь, Отечество – триединство было. Бог – церковь, Царь – президент, Отечество – армия.
Если у Государственной Думы – 3 процента доверия населения, у Совета Федерации – 1,5 процента доверия, у местной власти – 6-7 процентов, простите, о какой политической активности населения может идти речь? Как население может проявлять какую-то активность, вступать в диалог с людьми, которые лишены всякого доверия со стороны населения? Так что это не проблема населения, это проблема власти.