

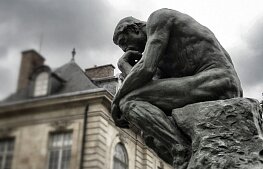
Процесс депопуляции в Нижегородской области продолжится

Озвученная вице-премьером Голиковой информация о том, что Нижегородская область входит в число регионов с наибольшей естественной убылью населения, это не новость. Это вообще проблема всей средней полосы России, где продолжается процесс депопуляции, который в какие-то годы частично, в какие-то полностью компенсировался миграцией, то есть приезжими. Но в последнее время и такой компенсации не происходит.
Что касается воздействия на эту проблему, то оно может быть только комплексным и очень длительным, здесь невозможны меры, которые сразу дадут эффект.
Почувствовали мы процесс депопуляции в 90-е годы. На него, конечно, оказывают влияние так называемые демографические волны, о которых много говорится. В войну произошел резкий спад рождаемости, который отозвался через поколение, потом еще через поколение и так далее.
Эти волны затухают, но они будут ощущаться еще и в течение всего XXI века. Проявляется это в том, что то уменьшается, то увеличивается количество детей ясельного возраста, первоклассников, абитуриентов вузов. Приток – отток. Но эти колебания не объясняют депопуляцию, а происходят на ее фоне.
В 90-е начался спад рождаемости, объясняемый не действием волны, а тяжелыми, мучительными процессами, которые переживала страна в те годы. Многие исследователи писали, что значительную часть страны охватило глубокое уныние и неверие в перспективы – людям тогда жилось очень тяжко. Резко упали доходы, все, во что верили, оказалось опрокинуто – и прежние репутации, и прежние знания не давали возможности не только жить, но порой и выживать.
И даже когда дела пошли на лад, страна начала развиваться достаточно высокими темпами и общество преисполнилось определенных надежд, эти процессы сохранились.
Да, правительство давно предпринимает усилия для исправления ситуации. И идея «материнского капитала» как раз и была направлена на то, чтобы побудить детей рожать второго ребенка, потому что по статистике для того, чтобы население не уменьшалось, в среднестатистической семье должно быть 2,3 ребенка. В России этот показатель значительно меньше, за исключением южного пояса – Дагестан, Чечня, и так далее, где рождаемость существенно выше (и это не только у нас – южные народы показывают более высокую рождаемость).
«Материнский капитал», к сожалению, не помог выправить ситуацию. Помощь се́мьи получали, но она была частичной и половинчатой – деньги можно использовать на ограниченное количество целей, да и то не сразу. Но какое-то число людей оно побудило завести второго и третьего ребенка.
При этом механизм государственной материальной поддержки в виде «премии» за рождение детей чреват очень неприятными последствиями. Часть людей заводит детей только для того, чтобы получить деньги. А потом этих детей сбрасывает государству. И у нас детские дома переполнены детьми при живых родителях – опустившихся, спившихся, деградировавших. Забирая детей из таких семей, ты их просто спасаешь.
При этом система детских домов тоже глубоко несовершенна – есть страшная статистика, показывающая, что 80 процентов выпускников детских домов пополняет криминальную среду. Они не могут вписаться в социум, далеко не всем удается заводить семьи. Поэтому очень правильно, что государство стимулирует приемных родителей и патронатные семьи, потому что в этом направлении движется весь мир – дети должны жить в семьях.
Материальное стимулирование влияет на рождаемость очень слабо. Это не значит, что помогать не надо, очень даже надо, потому что сегодня в России значительная часть бедных это семьи с двумя и более детьми. Более того, рождение второго ребенка обрекает среднюю российскую семью на бедность. С одним ребенком она еще может считаться малообеспеченной, но после второго, если только у мужа нет своего бизнеса или если он не относится к немногочисленному слою высокооплачиваемых людей, семья становится бедной. Поэтому молодые люди боятся заводить детей по экономическим причинам.
Однако мировой опыт показывает, что экономическая поддержка семьи лишь ненамного улучшает ситуацию с рождаемостью.
Еще один момент. Почему в США рождаемость выше, чем в Европе, при приблизительно равных условиях? Возможно, в связи с тем, что это общество более религиозное, а религия поощряет многодетность. Кстати, практически все немногочисленные многодетные русские семьи – это семьи очень религиозные. Я, пожалуй, не знаю исключений, если называть многодетностью наличие более трех детей.
Надо ли поддерживать в таком случае институт религии? Он и так поддерживается, но формы этой поддержки таковы, что церковь становится частью государственной машины, что значительно уменьшает доверие к ней. Однако церковь по-прежнему относится к авторитетным институтам, наряду с армией и президентской властью.
Чтобы изменить ситуацию с рождаемостью, нужно пробудить оптимизм, создать у людей впечатление, что страна развивается правильно, и дети, родившиеся сейчас, могут потом себя реализовать и прожить счастливую жизнь. Сегодня у молодых людей такой уверенности нет.
Еще одна сторона проблемы естественной убыли населения – это снижение смертности. Здесь многое удалось сделать, но мы все равно очень отстаем от западных стран. Прежде всего, в силу недостаточных инвестиций в медицину. У нас серьезные проблемы с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случаях, когда на Западе людей вылечивают, у нас они часто умирают.
А на селе ликвидация нескольких сотен фельдшерских пунктов привела к просто критической ситуации, когда человеку с приступом или роженице сложно добраться до больницы. То, что у нас называют оптимизацией медицины, это завуалированная экономия на здоровье людей. Можно ли ожидать, что в этих условиях смертность будет существенно снижаться? Нет.
Связанные с депопуляцией проблемы не решаются какой-то одной мерой. Нужен комплексный подход. И то, что региональное правительство собирается решить эту задачу, это правильно, это хорошо, хотя это проблема и носит федеральный масштаб. Удастся или нет – другой вопрос.
Но не надо питать иллюзий – в обозримом будущем ситуация коренным образом измениться не может. Хорошо, если она не будет ухудшаться.
Правительство Нижегородской области намерено прекратить естественную убыль к 2030 году. Я бы предложил 2050 год – это еще более безответственно.
Что будет в 2030 году? Все чиновники, которые сегодня строят планы, не будут помнить, что они сказали сегодня. Никто не будет.
За планы на два-три года вперед можно спросить. А в 2030 году общество будет решать совершенно другие проблемы, которых тоже будет масса.
Говорить о том, какими будет показатели к тому времени – это профанация, чиновничья игра. А меры предпринимать надо уже сегодня, и главная из них – смена приоритетов: надо меньше тратить на войну и больше на здоровье людей. Но в нынешних условиях этого не произойдет. Поэтому и изменений ждать не приходится.





















